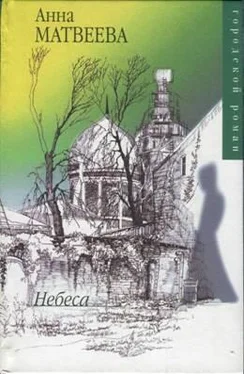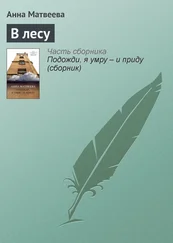— Результат не впечатляет, — сказала я. — Епископ на месте, а куда делись остальные? Разварились?
Зубов кивнул:
— Рецепт находится в стадии разработки. Есть определенные нюансы, хотя лично меня судьба тех попов с наркоманами не заботит — их озолотили сверх всякой меры, ибо я щедр, как король. А епископ долго не усидит — готов заключить пари. Есть у меня парочка тузов в рукаве.
Глаза его темнели, как тогда, в редакции.
— Впрочем, даже в корриде быкам оставляют в награду собственную жизнь. Indulto! Если бычок сражался на славу, его переводят в осеменители.
— Кощунственная метафора, — сказала я, но депутат улыбнулся:
— Ты же не из этих воцерковленных дурочек, откуда пафос? И что ты знаешь о кощунствах? Я подумаю над этим indulto, благо перемещаюсь в зрительный зал: партер, партер! Места в тени, сомбра, и на арене больше не случится ничего интересного: мне и так все ясно.
— Зачем вам это? Чем провинился епископ?
Зубов резко скинул улыбку с лица, словно застегнул невидимый клапан.
— Я расскажу об этом после — если у тебя достанет терпения ждать объяснений, ты их обязательно получишь. Пока могу сказать одно: я репетировал наше будущее.
Он выглядел, как актер в роли учителя, и вообще казался ряженым. Еще один вопрос горел на языке:
— Антиной Николаевич, это вы убили Алешу?
Зубов так красиво поднял брови, что только окаменевшее дерево смогло бы им не залюбоваться.
— Нет, дорогая, Алеша убил себя сам, и орудием убийства стала его беспримерная жадность. Он опустился до шантажа, а такие вещи не прощаются в среде… настоящих мужчин.
Я собирала силы по капле — как та бабушка из сказки, скребла муку по сусекам. Странный разговор стал страшным и напоминал теперь интервью — какое можно было вести в кошмарном сне.
— Вы, стало быть, настоящий мужчина? — спросила я без всякой едкости, но собеседник мой вздрогнул — в первый раз.
— Мой Микеланджело натолкнул тебя на эти мысли? Право, дорогая, этого слишком мало, чтобы прослыть геем.
— Слово «гей» используют гомосексуалисты, — сказала я, отступая в сторону прихожей. — Другие прибегают к более ожесточенной лексике.
— Да что ты? Я знаю множество евреев, которые называют собратьев по крови жидами.
— Почему вы так расслабленно делитесь со мной секретами? Так сильно доверяете?
Депутат ласково улыбнулся: я словно бы упала в пуховые подушки от этой улыбки.
— Разве это я стоял с плакатом у храма? Разве я сочинял обличительные заметки? Может, я ездил с жалобами к Патриарху? Подкупал журналистов? Стрелял в Алешу? Я депутат и честный делец, у меня даже бухгалтерия в относительном порядке. Пульт управления покинут, и машина движется самостоятельно. Меня в этом орнаменте не видно: я стою за широким деревом того самого леса. Я слон, которого проглотил удав. А главное, дорогая, даже если ты решишь оспорить мои слова и поделиться знаниями с обществом, то смолкнешь уже на второй фразе. Потому что ты меня любишь. И это правильно — бога надо любить.
— Все же вы не самоудалились полностью, а выступаете передо мной, как Майя Плисецкая. Как эти персонажи из голливудских фильмов, что рассказывают о своих злодеяниях с подробностями и дулом у виска.
— Мне нравится твоя преданность зевгме, — живо откликнулся Зубов. — И вообще ты складно излагаешь мысли. Но эти обвинения в пошлости — как ты можешь так обижать меня, меня — одинокого ангела смерти, или просто — ангела?
Его подбородок жалобно дрогнул, но Зубов тут же рассмеялся, обесценив сказанное. Блеснув прощальной улыбкой, аккуратно обошел меня стороной. Входная дверь открылась и тут же закрылась вновь: под ней лежал яркий прямоугольник света, похожий на письмо.
Петрушка перестал спать. Выгибался всем тельцем, хватался жадно за бутылочку, потом выкидывал ее из кроватки, так что летела, несчастная, с глухим стуком по комнате и не могла остановиться: крутилась как юла. Я тоже не спала — носила плачущего малыша на руках и пела ему про генерала Скобелева, только что попавшего в тюрьму. Мало похоже на колыбельную, но Петрушка затихал, грыз свой крошечный кулачок. Я начинала клевать носом, стоя валилась в сон. Сыночек прижимался личиком к моему плечу, на рубашке оставались влажные пятна. Уснуть было страшно, во сне я могла уронить Петрушку, поэтому таращила глаза как сыч, пока дыхание ребенка не успокаивалось.
Тогда я укладывала Петрушку в кроватку, над которой висела теперь старая иконка, и говорила Божьей Матери:
Читать дальше