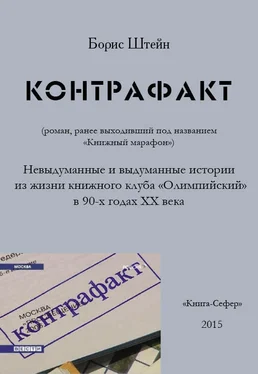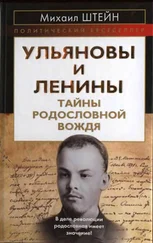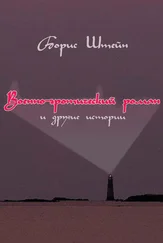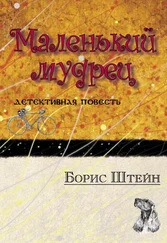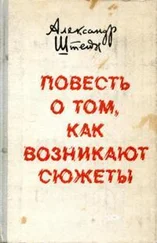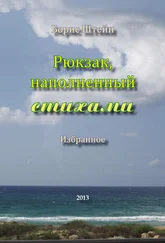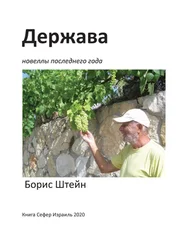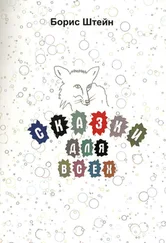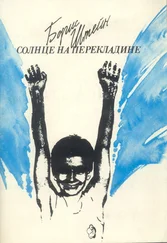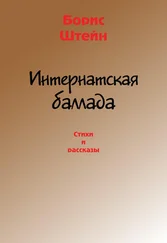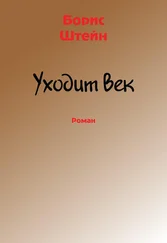В тишине и прохладе «Вод Лагидзе» Костя поведал Марине, что, учась в ГИТИСе, вовремя сумел оценить скромность своего таланта по сравнению с московскими звездами и понял, что ему как артисту в первые ряды здесь не выбраться ни за какие коврижки. А пятые-десятые ряды Костю не устраивали. Тогда Костя перевелся на театроведческий. И вот теперь, пожалуйста, он устроился вполне сносно. О Марине Костя кое-что знал. Но то, что она рассталась с мужем и соединилась в Москве с другим человеком, он услышал впервые. Как ни странно, это сообщение пришлось ему по душе, даже развеселило. О, загадочная русская душа из города Харькова! Что ж, время романтических чувств осталось в прошлом. На смену любовной романтике пришла романтика выживания.
– Знаешь, сказал Костя, – мне по жизни помог мой тесть. А я помогу тебе. Вот моя визитка. Позвони в среду. Я до среды что-нибудь придумаю.
В среду Марина позвонила. Она выбрала время 11 часов, когда предположительно человек уже пришел на работу, провел, если заведено, утреннее совещание, но отбыть по делам еще не успел.
– Вы что, не знаете? – ответил ей рыдающий женский голос. – Его убили.
Затем раздался протяжный стон, затем – короткие гудки.
Гражданин России Вова Блинов, сержант уже российской милиции, сидел в набитом книгами подвальном помещении и читал при свете настольной лампы брошюру американского автора Герберта Н. Кэссона «Искусство делать деньги». Позволительно будет заметить, что изо всех видов искусств этот занимал Вову более всего. Тем более что он им пока не владел. На мягкой обложке толстенькой брошюры была нарисована горилла в желтом клетчатом шарфе. Одной мохнатой рукой горилла прижимала к груди кучу банкнот, другой сыпала мелочь в перевернутую как бы для подаяния шляпу. То есть манипулировала денежным потоком. Из-за гориллы высовывался размещенный на заднем плане «Роллс-ройс» – символ преуспевания в начале XX века. Глаза гориллы были устремлены вдаль, вернее, в никуда, они ничего не рассматривали, а лишь отражали работу мысли, как у картежника, считающего в уме варианты.
«Ну вот, – думал Вова Блинов, рассматривая картинку, – обезьяна, стало быть, может делать деньги, а я не могу? Что я, глупее обезьяны?»
Книжицу вручил ему, посмеиваясь, Давид. Сам он, наверное, ее изучил, усвоил и применял теперь на практике: дела у него шли, кажется, неплохо. Во всяком случае Вова отнесся к труду известного английского предпринимателя со всем доступным ему вниманием, извлекая, таким образом, из халтуры по охране книжного склада двойную пользу: дополнительный заработок плюс познание азов бизнеса.
Книжка написана была внятно и доходчиво, точным и образным языком поучительной беседы. Однако доходило не все. Например, рассуждение о роли финансового директора, о проценте результативности как-то не обретали ясных очертаний. В то же время автор обращался непосредственно к читателю, в данном случае – к Вове Блинову, и Вова начинал чувствовать себя неким главой некой фирмы, пусть не до конца разобравшимся в вопросах результативности. И это было приятно. От этого сладко замирало сердце. Некоторые же вещи, некоторые, можно сказать, заповеди были совершенно понятны. Например: главное – не размеры магазина, а количество прохожих.
Это о выборе места расположения торговой точки.
Невыдающийся человек может сделать выдающийся бизнес.
Это было в самый раз! Подходило, как индпошив на нестандартную фигуру. Или: бизнес следует начинать с конца, то есть с обеспечения сбыта. Это тоже было ясно безо всяких оговорок. Осталось сообразить, что же именно сбывать.
Тут зазвучала мелодия Шуберта «Аве, Мария!». Звук был довольно противный – сдавленный голос электронного устройства, установленного вместо дверного звонка. В то время такие штучки входили в моду. Что касается самого подвального склада, то он был оборудован плохо. Деревянные поддоны под книжными штабелями покоились на пыльном цементном полу. Под единственный старый разбитый канцелярский стол был подсунут кусок линолеума случайной формы, чтобы сидящий за столом, двигая ногами, не поднимал цементной пыли. Стул был один. Он шатался. Время от времени приходилось его переворачивать и бить раскрытой ладонью по местам сочленений. Три трубки неонового освещения были неаккуратно подвешены на стенах – без плафонов. Зато звонок не просто тренькал, а изображал мелодию Шуберта. Бедный Шуберт!
Вова взглянул на часы. Кого это черти принесли в три часа ночи? Вова не был героем, но службу знал. Он достал из кобуры пистолет Макарова и снял с предохранителя. Затем поднялся по лестнице, ведущей к внешней двери, и спросил с угрозой:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу