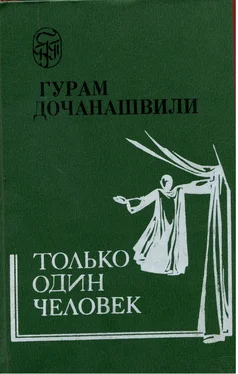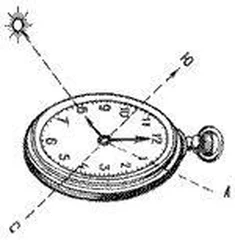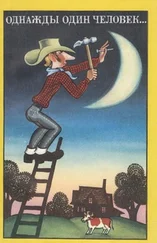Так они и стоят:
Она, привыкшая ошеломлять, — глядя на него с легкой улыбкой; краешком глаза, он — вовсю пяля на нее глаза и по-дурацки разинув рот. Ей будто все нипочем, однако она явно ждет комплимента — ведь мы же неоднократно повторяли, насколько она женщина, а значит ей приятно будет и в тысячный раз послушать расточаемую прямо в лицо хвалу, а тем паче, когда она только-только вышла из бассейна и стоит теперь, плавно изогнув стройную шею, на солнышке, освеженная, в прекраснейшем настроении, вся как бы медленно расцветая, и ждет от восхищенного ею мужчины словесного тепла. Да не тут-то было. Как-то на свой лад взбудораженный, Бахва отвесил ей такое, что остается только диву даваться!
Вот что он сказал:
— Да ты, — говорит, — женщина, совсем потеряла стыд и совесть!
И хоть за словами его смутно слышалось что-то хорошее, она сначала вздрогнула, потом уставилась на него растерянно широко; открытыми глазами и под конец разразилась возмущением:
— Что значит потеряла совесть! Да как вы смеете!!
Бахва низко опустил голову и спросил едва слышно:
— А разве это не бессовестно — быть такой красивой!
Он проговорил это так робко и смущенно, что, хотя женщин покоряет в мужчине сила, но этот его смиренный тон, последовавший за первым наглым выпадом, так тронул ее сердце, что она вот-вот готова была погладить его по темени, низко, как у нашкодившего ребенка, потупленной головы. Но раздумала: при всем том в нем чувствовалось нечто такое уж очень мужское, что она воздержалась переходить с ним на короткую ногу. Но, хоть и напуганная этим, она все же решилась спросить:
— Я тебе очень понравилась?
— Еще бы не понравиться! — метнул на неё взгляд Бахва.
— Ну и что же мне с тобой делать? — обвела она его взглядом, — а он-то, между нами, был очень и очень ничего себе. — К сожалению, ничем не могу помочь.
— Как так не можете помочь, — сказал Бахва и заглянул ей в глаза, но, встретив ее готовый вспыхнуть гневом взгляд, поспешно добавил: — Клянусь матерью, у меня и в мыслях не было ничего плохого. Просто разрешите мне немного на вас посмотреть, чтоб я мог в вас получше вглядеться и на весь век свой запомнил такую удивительную красоту. Больше мне ничего не надо.
Тут в женщине пробудился интерес, — Бахва не походил на других мужчин, — и она задумалась, что-то про себя взвешивая...
— И что ж, вы так и собираетесь разглядывать меня — при всем честном народе?
— С вашего позволения, присядем вон на ту скамью.
— Хорошо, — ответила она: кого из нас не увлекал порой шальной случай.
Бахве казалось, что он попросил о чем-то невозможном, и он решил поначалу, что женщина, согласившись лишь для виду, на самом деле над ним подшучивает; но она пошла, пошла, пошла и села. Бахва, разумеется, тоже пошел, пошел, пошел и, подойдя к ней поближе, остановился в каком-нибудь шаге от нее, подумав при этом — глядите, какой паршивец, — что если эти несколько шагов дались ему так сравнительно легко, то что, мол, стоит теперь в последний раз переступить ногой; но ах, нет, даже если бы он прошел километры, этот последний, соединительный шаг был бы для него неодолимо труден, ибо он разделял материки и мог существовать только в мечте. Смотрит, смотрит Бахва на женщину во все глаза и не знает, к чему бы в ней приглядеться раньше и в особенности, а она одну изумительную ногу... «Интересно, за какими босяком она замужем?» — одну изумительную ногу (!) положила на другую такую же изумительную ногу и раскинула вдоль спинки скамьи руки, как-то хищно впившись пальцами с заостренными ногтями в окрашенное в зеленый цвет дерево; и какие же два плеча выступили над этими раскинутыми руками — одно другого лучше; грудь Бахва из стыдливости не разглядывает, хотя и знает, что это будет прекрасное зрелище; а какая точеная, в меру высокая у нее шея, об этом лучше и не спрашивайте! И кто только придумал такое малоприятное название, как «подмышки», для тех сокровенных местечек в подплечьях, которые, если и можно с чем сравнить, то только лишь друг с другом, и которые сам Бахва назвал бы скорее редкоупотребляемым словом — бархотки, и снисходительнейший бассейный читатель должен ему поверить.
«Не мерещится ли мне все это?» — тревожно царапнуло что-то изнутри растревоженное сердце Бахвы; ему захотелось пощупать себе лоб, но, весь, с головы до ног, окаменевший, он не смог и шелохнуться, — вот что сделало с ним ее лицо.
Вот ведь известно, что нет лучше белой кожи, верно, ведь? Но эта женщина лишь местами была светлокожей, а больше ее тело было покрыто темным загаром; в общем, она вся была точно вылеплена из глины, и это ее очень красило. Да, в ней совершенно явно преобладала глина. И обреченный асфальту Бахва, который не одними ступнями, а всем существом своим жаждал земли, как зачарованный, впился в глаза этой вылепленной из глины женщины, — в которых смешались все многообразные краски природы: желтый, синий, зеленый, сероватый и так далее, — обостренно воспринимая целый вместившийся в этих глазах маленький — до сих пор спокойный, а теперь растревоженный — мир, объявший все окрест и включавший в этот миг и его самого, Бахву. В этих глазах, завершавших собою божественную прелесть тела, отражались трава, лес, одомашненные деревья — те, что давали плоды, но и бесплодные, пространно-тенистые, дарующие глазам влагу, тоже. И какое же все-таки это было чудо...
Читать дальше