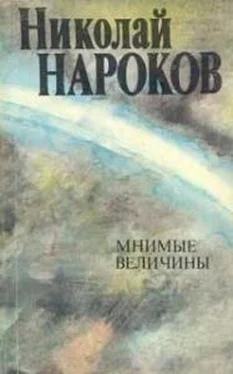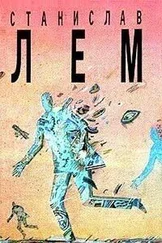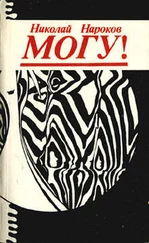Пустяки охватили его со всех сторон, и чем невозможнее они были, тем более реальными казались они ему. Он даже начал придумывать рисунок этого значка «посверх пальта», но ничего придумать не мог, хотя безо всякого усилия видел на себе этот значок, даже не зная, каков он должен быть.
Мечта о десятитысячнике захватила его целиком, подчинив в нем все. Он неуклюже и бестолково придумывал новые нелепые подробности, губившие и его самого, и других людей, и тешился тем, что он, мол, участвовал «вон в какой организации! Это тебе не промпартия какая-нибудь паршивая, а — „Черная рука“! А я в ней — почитай, что самый главный!» Реальное и нереальное поменялись местами, но он не замечал этой перемены и не страшился ее, а подчинился перемещению, словно потонул в нем. Он возводил на людей губительные обвинения и, не колеблясь ни минуты, уверял Яхонтова:
— А если он, сукин сын, отказываться будет, так ты его на очную ставку со мной поставь. Я ему припомню! Он у меня припомнит!
Это не было ни сумасшествие, ни мания: это было нормальное состояние для ненормальной жизни в мире фикций. В старину говорили: «леший обошел». Заблудившийся путник терял представление о расстоянии, о направлении и о времени, а блудил, не веря своим глазам и не видя своих следов. То же было и с Варискиным, завороженным, как лешим, созданным им ложным миром. Он не имел сил выбраться из него, потому что не сознавал ни того, что он заблудился, ни того, что потерял и путь и цель. И чем больше углублялся он в несуществующий мир, тем реальнее становился для него этот мир призраков-фикций.
Дело Варискина в конце концов влилось в общее дело «троцкистов» и обезличилось в нем. Но по мере того, как показания Варискина начали являться полезным основанием «по смежным делам», то есть для обвинения многих других, его стали вызывать к себе и другие следователи, которые (он видел это) были покрупнее и позначительнее Яхонтова. Один из них особенно импонировал Варискину: крупный, кряжистый и с ромбом в петличке. Он не кричал, не ругался, не бил, говорил Варискину «вы» и так умело подсказывал нужные факты, что Варискину оставалось только поддакивать. Он и поддакивал, с удовольствием чувствуя, что «помогает следствию», и помогает не просто, а «как сознательный, верный большевик». Мечта о «десятитысячнике» становилась реальностью: «Клюет! Молодец, Петрухин!»
Но вместе с тем какое-то надоедливое сомнение начало мучить Варискина: достаточно ли он сделал для того, чтобы попасть в «десятитысячники»? Что особенное он сделал, чтобы «в нос шибануло», как того требовал Петрухин? «Оно все как будто бы и хорошо, да ведь оно в нос не шибает, потому что шибать нечем!» И он мучился недостаточностью сыгранной им роли.
В долгие и тоскливые часы сидения в одиночке он все старался придумать такое, чтобы уверить в своей несомненной значимости: он — не такой, как все, он — Варискин! «Вот если бы, скажем, подкоп под Кремль, — убого и беспомощно придумывал он, — и чтобы подкоп этот вел Ворошилов или, скажем, Калинин. А я, значит, чтобы это все обнаружил!» Но тут же он спохватывался и пугался такой мысли: даже оглядывался по сторонам, не подслушал ли кто-нибудь эту мысль? «За это — к стенке!» Даже ночью, просыпаясь и долго лежа без сна (он стал спать очень плохо), он все придумывал: «Что бы сказать еще такое, чтобы… чтобы необыкновенное!» Но в голову лезли только бессмыслицы: то какие-то дрессированные змеи, которых заговорщики собираются разводить в сочинском дворце Сталина, то заражение Москвы-реки «самыми что ни на есть вредными бациллами». Целыми днями он ходил из угла в угол по своей одиночке, заложив руки за спину и бесшумно ступая босыми ногами. Морщил лоб, поднимал кверху брови и все шептал, настраивая и подзадоривая себя: «А если, скажем… Вот, если…» Но никакое «если» никак не приходило в голову.
И вдруг оно пришло. Пришло сразу, без усилия, само собою: как если бы кто-нибудь повернул выключатель, и, вместо темноты, стал свет. Варискин вздрогнул, подняв голову, вскочил с койки и начал почти бегать из угла в угол, взволнованно шепча:
— Вот! Вот оно! Уж ежели этого мало, так… Теперь уж прямо в десятитысячники! Без пересадки!
И, немного успокоившись, стал уговаривать себя:
— Это самое дело… Его надо провертеть по-умному, это дело, потому что… Такое уже это дело, что его по-умному провертеть надо!
Одиннадцатого сентября, часов в двенадцать дня, Яхонтов вызвал его к себе. Яхонтов, конечно, никак не предполагал того неожиданного поворота в деле, который задумал сделать Варискин, а потому и не приготовился. Впрочем, дело Варискина уже начало надоедать ему.
Читать дальше