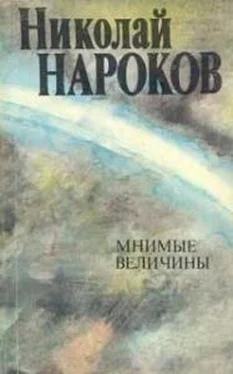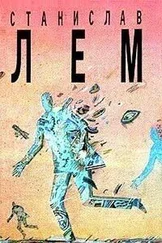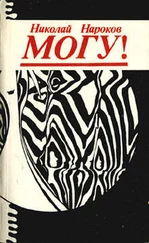— Времени нет. В другой раз.
— Ваша работа готова! — вспомнила Евлалия Григорьевна, опять не зная, можно ли говорить о работе на лестнице.
— Знаю. Ничего, я потом за нею зайду. Ну, до свиданья.
— До свиданья, Павел Петрович!
— Ага! Запомнили? — рассмеялся Семенов. — По царю запомнили?
— Нет, я… так! — совсем смутилась Евлалия Григорьевна. Семенов вздохнул и посмотрел на нее.
— Я завтра… Нет, послезавтра приду. Вечером. Можно?
— Ну, конечно, можно! — подняла и открыла свои глаза Евлалия Григорьевна и ясно посмотрела на него снизу. И он почувствовал, что ему опять стало так хорошо, легко и просто, как тогда, у Софьи Дмитриевны.
— Послезавтра! — повторил он. — До свиданья.
— До свиданья.
Он пожал ей руку и стал медленно спускаться, о чем-то раздумывая. Евлалия Григорьевна поднялась до площадки и собралась было уже завернуть на другой пролет, как Семенов окликнул ее.
— Минуточку!
Она остановилась и обернулась. Он быстро, через две ступеньки, поднялся к ней, но не приблизился, а спросил издали, снизу:
— Я… Мне одну вещь знать надо. Вы с вашим отцом говорили обо мне?
— Что… говорила? — не поняла Евлалия Григорьевна.
— Вообще! Говорили? Когда-нибудь обо мне говорили? Хоть что-нибудь? Хоть одно слово?
— Нет… — чуть растерянно ответила Евлалия Григорьевна. — С папой? Нет, нет, нет! Зачем?
— Нет? Не говорили? Я так вот и знал! — И, ни слова не говоря больше, твердо и быстро, почти бегом, стал спускаться вниз.
Софья Дмитриевна, конечно, рассказала Евлалии Григорьевне о том, как она пригласила к себе Семенова «подождать», но про свой разговор о ней и о Григории Михайловиче не сказала ни слова. Но оттого, что Семенов побывал у Софьи Дмитриевны, Евлалии Григорьевне стало казаться, что он этим самым как-то прочнее вошел в ее жизнь. И это ее смущало. Кто такой Семенов, она не знала, но понимала, что он «важный партиец», то есть такой человек, каких она всегда побаивалась. Почему она должна побаиваться «важных партийцев», она понимала смутно, угадывая в них то, что они — особые существа, которые «все могут».
Это «все могут» Евлалия Григорьевна понимала для себя очень ясно и точно, хотя оно и было довольно сложно. «Все могут» страшило ее не той фактической возможностью, которую давала этим людям их власть, а отсутствием в них внутренних преград. Всякий сильный человек, вооруженный ножом, практически может зарезать того слабого человека, у которого ножа нет, но все же он резать не станет: «не сможет» зарезать. У него внутри есть то, что не позволяет ему резать слабого и беззащитного. У этих же людей, у «важных партийцев», никакого запрета внутри нет, они в этом смысле свободны, и вот именно поэтому они «все могут». Они срывают кресты с церквей, отнимают хлеб у голодного и убивают каждого, кого им надо убить. Это страшно. Но еще страшнее то, что они не говорят себе «все позволено», потому что им даже и не нужно это «все позволено»: оно для них не имеет ни цены, ни смысла, ни цели.
Каков бы ни был преступник и какое бы преступление он ни совершил, он всегда сознает, что он — преступник и что совершенное им есть преступление. И он старается скрыть совершенное им: не только оттого, что он боится суда и наказания, но и оттого, что совершенное им есть в его глазах преступление. Это сознание преступности есть всегда, даже тогда, когда у преступника нет ни раскаяния, ни угрызений совести. Не потому ли русский народ называет преступников «несчастненькими»?
У большевика же сознания преступности нет. Нет у него даже противоположного: сознания права на преступление. Ни запрета, ни права он не ждет и не ищет: они ему не нужны. Он в себе ни через что не преступает. Преступление есть только акт, и в этом акте нравственная сторона отсутствует точно так же, как она отсутствует в ряде других актов: в обточке гаек или в сучении пряжи. И то, что большевики, «важные партийцы», ни через что в себе не преступают, Евлалия Григорьевна называла так: «они все могут». Внутри этих людей (как казалось Евлалии Григорьевне) нет человека. Это — особые существа. Какие? Евлалия Григорьевна не знала.
Семенов был «важным партийцем». Но он принес Шурику коньки, прислал пишущую машинку и дал ей работу. Почему? Софья Дмитриевна и Григорий Михайлович говорили, будто он «влюбился», но Евлалия Григорьевна была женщиной, и «влюбился» она бы чувствовала. Семенов же настолько ничем не проявлял никакого «влюбился», что Евлалия Григорьевна без ошибки понимала: нет, это не «влюбился». Она несколько раз поймала в его взгляде что-то пытливое, но это не была пытливость любви, а была пытливость затаенной муки.
Читать дальше