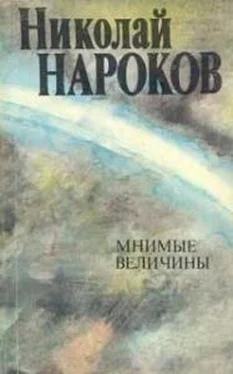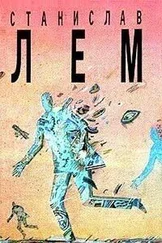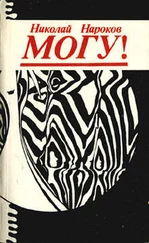— И… стало быть? — слегка приподнялся Любкин, готовый тут же рухнуть. — Стало быть… А кто ж «ее идет»? Кто мешки-то на осла кладет? — с внезапной силой выкрикнул он, приковываясь к холодным и твердым глазам Супрунова. — Ослом-то кто правит? Кто?
— Большевики! — совершенно спокойно ответил Супрунов и ткнул докуренную папиросу в недоеденный соус на тарелке. — И вот они-то, а совсем не партия, посылают тебя в Афганистан: завези-ка туда мешки и сдохни! Почему — «сдохни»? Потому что они большевики. И ты сам — большевик. Ты сам всегда делал то же самое. Ведь мы с тобой еще совсем недавно Варискина и Яхонтова убили. Забыл? А потому я тебе и говорю: беги!
Любкин опустился на стул. Он не только все понимал, но понимал с тем большей ясностью, что ни одно слово Супрунова не было для него новым. Каждое слово уже давно было в нем самом.
— Ты вот говоришь, — не меняя ни вида, ни позы, ни тона, размеренно продолжал Супрунов, — что тебе невкусно есть, если ты не знаешь, как оно называется. Смешно мне это слышать, чтоб ты знал! «Называется!» — слегка фыркнул он. Черт вас знает, зачем это вам обязательно название нужно! — дернул он плечом, не объясняя, о ком это о «вас» говорит он. — А чуть только я тебе какой-то дурацкий суперфляй назвал, так ты и попробовать захотел: вкусно-де!.. Так я тебе, если ты хочешь и если тебе это непременно надо, сколько угодно суперфляев назову: «коммунизм», «советская власть», «социалистическое строительство»… мало тебе? Могу и еще: Маркс, Ленин, Сталин. Еще мало? Так я могу и еще суперфляй назвать: «коммунистическая партия». Самый что ни на есть суперфляйный суперфляй! Мы с тобой в восемнадцатом году за коммунизм кровь проливали и умереть готовы были, а ведь коммунизма-то и нет! Не в СССР его нет, про СССР и говорить нечего, а вообще его нет! Вообще! Суперфляй для дураков есть, а коммунизма нет и быть не может, потому что борьба не за коммунизм идет, а за то — кто наверху? у кого вожжи в руках? — властно и даже грозно выпрямился Супрунов. — Только в вожжах дело. Ефрем, только во власти дело, а совсем не в Марксе — Ленине! Что тебе нужно: суперфляй или вожжи? Коммунист ты или большевик? Сможешь ты, ради вожжей, эту самую коммунистическую партию к стене поставить и сам ей пулю в затылок всадить?
— Я большевик, — уверенно и гордо сказал Любкин.
— Так на черта ж ты Любкина боишься? Что ж ты мне про какую-то идиотскую измену талдычишь? — откровенно рассердился Супрунов, и Любкин почувствовал себя в чем-то виноватым. — Большевик, Ефрем, это прямая линия. Совсем прямая! Большевик и сам к суперфляю не пойдет, и суперфляя в себе не пустит. Большевик — это если человек в себе, из себя и для себя. Только в себе и больше ни в ком. А главное, ни в чем. И все, что большевик делает, он из себя делает, а не из суперфляев. Полная свобода, совершенная свобода, от всего свобода: только в себе, только из себя и только для себя. Ничего другого: ни Бога, ни человека, ни закона. Ни одного суперфляя! А ты говоришь — «измена». Кому измена? Суперфляю?
— Та-а-а-ак! — очень длинно протянул Любкии. — Пожалуй, оно и так: в себе, из себя и для себя. Свобода! Ото всего свобода! Но только…
Он прерывисто, немного судорожно, вздохнул (похоже, как бы всхлипнул), обтер ладонью слегка опьяневшее лицо и докончил — не то с сомнением, не то с тоской в голосе:
— Но только как его этой свободы достигнуть? Как его ото всего освободиться? Чтобы действительно уж без Бога, без человека и без закона быть?
Супрунов молчал. Любкин сидел, грузно опустившись на стуле всем своим захмелевшим телом. Просидел так с минуту и медленно, настойчиво, с усилием покрутил головой, как будто хотел что-то выжать из нее. А потом через силу сказал, и видно было, что ему трудно говорить это:
— Это дело такое… «Беги»-то… Его ой-ой как тонко продумать надо!
И, поняв, что этим бессвязным ответом он высказал свое согласие, он живо встрепенулся.
— Но ведь опять же… — почти испуганным голосом добавил он. — Но ведь опять же получается — ненастоящее! «Измена» — суперфляй! Так! Согласен! Вполне! А «беги»-то — разве настоящее? А большевизм-то разве настоящее? А вдруг и большевизм — суперфляй?
И почти страстно добавил, вскидывая обе руки кверху:
— Так где же настоящее? Настоящее-то где же, Павлуша, скажи мне, сделай милость! В чем оно?
На другой день, когда Любкин проснулся, он сквозь мутную тяжесть давящего похмелья вспомнил «беги», но не повторил своего вчерашнего возражения («Измена!»), а пробурчал про себя иное:
Читать дальше