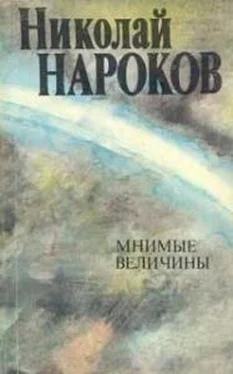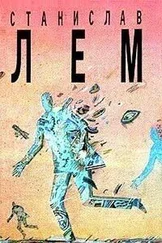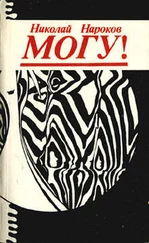— Да, да! Да, хорошо! — пробормотала она. — Значит, кончилось? Освободили? Это, конечно, было какое-то недоразумение и…
Она заставила себя прикоснуться пальцами к его рукам пониже плеч, как будто этим прикосновением она хотела заменить объятие. Но, прикоснувшись, почти тотчас же отдернула руки и, стараясь не смотреть на отца, сделала шаг в сторону, словно ей было нужно пойти туда по какому-то делу, о котором она сейчас вспомнила.
— Ах, да! — спохватилась она. — Что же ты стоишь? Садись… То есть сними пальто, конечно!
Никто в квартире не видел, как он пришел, но уже через несколько минут все знали: его освободили. Перебегали из комнаты в комнату и сообщали друг другу новость. Но к Евлалии Григорьевне заходить не решались: одним мешала деликатность, а другим — опасение проявить интерес к тому, кто был арестован и, следовательно, был «не чист». Но Софья Дмитриевна, на правах своего человека, торопливо пришла с озабоченным видом и с приветливой улыбкой на старческих губах. Шурик пришел вместе с нею.
— Ну до чего ж хорошо! — ласково пропела она и всплеснула руками, увидев Григория Михайловича. — Так хорошо, что и сказать даже невозможно! Поздороваемся, что ли?.. Здравствуйте вам у вас дома!
— Да, да! — заулыбался Григорий Михайлович и закивал головой. Здравствуйте дома!.. Это… Это… Это очень хорошо вы сказали, потому что…
Его губы задрожали. Он несколько раз быстро моргнул веками и, не выдержав, всхлипнул. Но устыдился этого всхлипывания и постарался улыбнуться виноватой улыбкой.
— Нервы! — объяснил он так, словно попросил прощения.
Евлалия Григорьевна сразу почувствовала ту теплоту, с которой Софья Дмитриевна, так не любившая Григория Михайловича, искренно встретила его. И ей стало больно: почему она не смогла так же тепло встретить отца? Она понимала, что в глазах Софьи Дмитриевны Григорий Михайлович есть сейчас только пострадавший и страдающий и что поэтому она забывает все: забывает перед лицом страдания. Почему же она, дочь, не может забыть? Почему она так черства, так холодна и так зла?
Софья Дмитриевна взяла Шурика за плечи и подтолкнула его:
— Поздоровайся же, Шуринька, с дедушкой! Вот дедушка-то и опять, слава Богу, домой вернулся.
Шурик, не привыкший здороваться с Григорием Михайловичем и быть ласковым с ним, очень неловко подошел с детской застенчивостью и остановился, глядя на Евлалию Григорьевну. Григорий Михайлович посмотрел на него и положил ему руку на голову.
— Да, да! Шурик! Да, здравствуй! — опять заулыбался он, не зная, что ему делать с рукой, которую он положил на голову внука. Он притворился, будто что-то вспомнил, и поскорее полез рукой в карман, словно там ему было что-то нужно. И вдруг что-то нащупал: это была та коробочка с папиросами, которую ему ночью дал Бухтеев. Он резко и отрывисто дернул рукой и кинул на стол эту коробочку: кинул так, будто руке было противно держать ее. И по лицу пробежала тень страха и боли.
— Это… Это… — забормотал он. — Ты выкинь это! — нервно повернулся он к Евлалии Григорьевне. — Обязательно! Сейчас же!
Евлалия Григорьевна не поняла. Она взяла коробочку и приоткрыла ее.
— Здесь папиросы! — не то спросила, не то объяснила она.
— Да! Папиросы! Да! Ты их выкинь, выкинь! Они…
Софья Дмитриевна, словно что-то поняв, очень решительно взяла из рук Евлалии Григорьевны коробочку и спрятала ее в своей руке: спрятала от Григория Михайловича, чтобы он не видел.
— Сейчас, сейчас! — успокоительно заверила она — Сейчас вот выкину!
Она повернулась и пошла было из комнаты, но, сделав два-три шага, о чем-то догадалась и даже всплеснула руками.
— Да ведь о чем же мы думаем! — упрекнула она и себя и Евлалию Григорьевну. — Григорию-то Михайловичу надо ведь и помыться, и побриться, и себя в порядок привести… А потом покушать и отдохнуть! Намучились вы, поди, страх! — намекающим тоном сочувственно добавила она. — Я, голубенькая, сейчас ванну устрою Григорию Михайловичу, а вы здесь уж распорядитесь: белье чистое достаньте, завтрак приготовьте… Ну, и водочки для-ради такого случая совсем не грех выпить! И я выпью с вами, обязательно выпью!.. С удовольствием!
Евлалия Григорьевна почти обрадовалась: начать что-то делать и заботиться было легче, чем пытаться говорить с отцом. Она собрала чистое белье Григорию Михайловичу, вытащила из шкафа его платье, постелила постель и (с немного лукавым видом) остановилась, задумавшись: что бы такое особенное приготовить к завтраку? Но, делая все это, она молчала, ни о чем не спрашивала отца, а ограничивалась только тем, что неопределенно бормотала:
Читать дальше