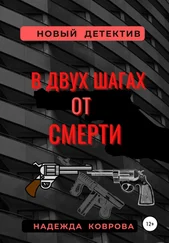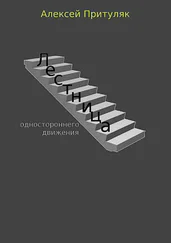— Давай сюда свою шарманку! — приказал тот, с ножом.
— Это зачем же? — насупился Иван.
— Слышь, чудовище, ты борзой, что ли? — оскалился второй, тот, что был с арматурой. — Нам ведь и кишки твои на перо намотать — не вопрос. Давай лучше музыку. Мы гармошку твою покалечим, для порядку, и разойдемся на первый раз.
— Не дам, — ответил Иван холодея.
— Может кончим его? — предложил первый.
— Утихни, Бес, — огрызнулся второй. И ласково обратился к Ивану:
— Слышь ты, чучело, ты не догоняешь, что по нитке сейчас ходишь? Ты, кнопкодав, на чужую территорию залез со своей гармошкой, а значит, должен быть наказан. Мы не шибко злые, ты на Беса не гляди, лютовать с первого раза в правилах не держим. Мы тебя накажем чуток, морально, и — ходи дальше, куда шёл.
— Инструмент не дам! — отрезал Иван, ища глазами в куче мусора, чем бы можно было отмахнуться.
— Значит, хочешь лично ответить? — прищурился Бес.
— Лады, — подытожил второй. — Твое слово.
Драка была не долгой. Вернее, её и вовсе не было. Иван один раз только оттолкнуть Беса успел и — всё: ему аккордеон беречь надо было. Они хлестким ударом по лицу свалили его, и Бес быстро оказался у Ивана на спине, крепко прижал его к щебенке.
— Руки ему держи! — скомандовал второй.
И пока Бес держал Ивановы руки, прижимал их к земле, второй беззлобно, деловито и размеренно молотил своей арматурой Ивану по пальцам, по кистям, по запястьям — куда попадал.
В довершение они по паре раз пнули его, бросили ему на спину арматуру, сплюнули и ушли.
С тех пор Иван рынок далеко обходил. И только по крайности, когда уж совсем было туго, появлялся там. Сначала он долго ходил вокруг да около, выглядывая "пастухов". Потом подходил к какому‑нибудь охраннику, помоложе и не шибко злому на вид, и пробовал договориться. Иногда удавалось выпросить себе полчаса — час относительного спокойствия, но чаще пацаны требовали хорошую предоплату. Оно и понятно: им тоже никакого резона нет подставляться и со своими ссориться…
Дождь моросил и моросил. Похоже, он зарядил на весь день. Хорошо, что куртка — с капюшоном. Улицы конечно же были пусты. Надежды на хоть какой‑нибудь заработок сегодня — каплями стекали по старенькой болонье и падали под ноги. А есть хотелось ужас как. Еще больше хотелось выпить. Вчера Ивану только и удалось что наиграть себе на омерзительный беляш да стакан отвратного кофе в привокзальной закусочной. Потом, в распивочной, какой‑то выпивоха угостил его полустаканом водки да блюдцем салата, за "Степь да степь кругом…"
Иван хорошо пел. Он был не только мастером, виртуозом даже, по части аккордеона, но и голосом обладал сочным и трогательным. Его любили слушать. Платить не очень любили…
Дойдя до трамвайного кольца, он свернул налево и, перейдя дорогу, ступил на тихую аллею, которая вела к церкви. В его намерения не входило идти именно к паперти. Видимо, господь Бог повёл его туда…
Любят люди списывать на Божье провидение свои побуждения и поступки, которых объяснить не в силах…
В такую погоду и в такую рань можно было не опасаться встретить у церкви смотрящих Архидьякона. Часа на два спокойной работы можно было рассчитывать смело. Другое дело, что и на заработок надежды были более чем призрачны.
Не доходя полсотни метров до церковной ограды, Иван увидел два силуэта, которые в эту рань уже дежурили в аллее. Какой‑то дедок на костылях начал истово креститься, едва завидел Ивана. Дед был Ивану не знаком и тоже не знал музыканта и надеялся, наверное, что подадут. Напротив него, на расстеленной по мокрому газону клеёнке сидела девочка. Девочку эту Иван знал немного. Впервые он увидел её здесь же, у церкви, месяца три назад. Было ей лет тринадцать, не больше. Была она не по — детски тиха, задумчива, даже серьёзна, неразговорчива и пуглива. Одной руки у неё не было — вместо руки была культя до локтя. Вторая рука, видно, искалечена, потому что управлялась с ней девочка не очень хорошо. Её тонкое, будто прозрачное от какого‑то внутреннего света, очень миловидное, такое детское и в то же время такое серьёзное личико и её тягостное положение редко оставляли прохожих равнодушными — ей всегда хорошо подавали.
Когда Иван впервые увидел её, когда немного узнал о ней, его сердце словно прокололи вдруг тонкой горячей иглой — такая жалость, злость на треклятую жизнь, нежность к ребёнку и безнадёга им овладели. Иван говорил с Соней всё время, пока стоял у церкви, а вечером, — пьяный, злой и беспомощный — валялся на кровати в своей провонявшей вечным перегаром от водки и табака комнаты и плакал навзрыд, бил в бессильной ярости кулаками в стену, матерился и богохульствовал…
Читать дальше



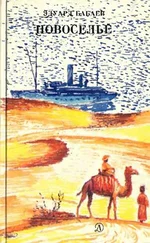


![Алексей Доронин - В двух шагах от вечности [litres]](/books/393807/aleksej-doronin-v-dvuh-shagah-ot-vechnosti-litres-thumb.webp)