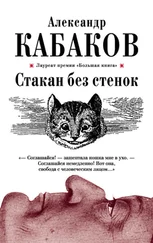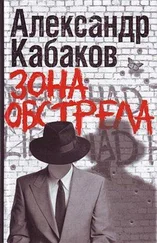Некоторое время назад он заметил, что бежит на некрутой, но ощутимый подъем. Перрон начал забирать в гору, и даже не просто в гору, а как бы сворачиваясь, поднимаясь по дуге к дальнему краю, и сейчас он бежал уже как бы внутри сворачивающегося листа толстой бумаги. Так бывает, если бумагу свернуть трубкой, а потом развернуть и разгладить на столе: она снова начнет сворачиваться, край ее, храня память о трубке, которой только что была бумага, начнет приподниматься над столом, загибаясь, и бумага по краям станет похожа на нос лыжи.
Асфальт перрона пересекли складки, потому что асфальт не мог сворачиваться, как бумага, морщил, эти морщины еще больше затрудняли бег.
Да он уж и не бежал, а карабкался по этому поднимающемуся перед ним асфальту.
Поезд давно ушел, исчез, расплавленный солнцем, все так же сиявшим за асфальтовой стеной, потом сияние тоже исчезло, потому что стена, круче и круче поднимающаяся к небу, заслонила перспективу.
Он карабкался и срывался, стена сбрасывала его, поднимаясь прямо под руками, которыми он пытался зацепиться за морщины асфальта, прямо под коленями, на которых он полз по вертикальному перрону.
Это было смешно, и она рассмеялась, наклоняя голову, щурясь и вытягивая губы трубочкой, она всегда делала такую гримасу, смеясь на его нелепостями.
Ну чего ты смеешься, как бы сердито спросил он, но и сам засмеялся, потому что получалось действительно очень смешно.
Знаешь такое выражение: «пора сворачиваться», спросил он ее, в смысле «пора закругляться», тут он снова засмеялся, потому что «пора закругляться» тоже было похоже – в смысле «время кончать», в общем, понимаешь?
Она стояла там, откуда он убежал и куда уже не мог вернуться, почти в самом начале перрона, он махнул ей рукой и сделал строгое лицо – мол, смотри, веди себя хорошо, но на перроне толпился народ, и за спинами ее уже не было видно, и он так и не рассмотрел, какую гримасу она состроила в ответ.
Асфальт продолжал сворачиваться, теперь стена уже была не только перед, но и над ним.
В общем, это не было страшно, потому что он ведь знал и раньше, как заканчивается перрон.
Но все же стало грустно – почему-то он надеялся, что на этот раз обойдется, но не обошлось.
Ах, не надо было бежать, подумал он, остаться там, в самом начале, где осталась она, смотреть вслед уходящему поезду спокойно, помахать рукой, вернуться, снова жить, улыбаться, но он не улыбался, а плакал навзрыд, вслух – так, что, наверное, было слышно за стеной.
Ломило суставы, видимо, перед пробуждением он слишком долго лежал на спине, во рту жгло горечью, подступала уже и головная боль, но пока она не отвлекла, он успел подумать о том, что все чаще видит их во сне с тех пор, как они умерли – сначала отец, а потом и мать.
Все остальное – бег, поезд, людей, перрон в асфальтовых морщинах – он вспомнить уже не успел, потому что открыл глаза, и ненавистный рассеянный свет раннего пасмурного утра окончательно вытеснил навязчивый сон.
Пару дней спустя № 1 решил говорить только правду.
Начал с того, что постановил плюнуть на условности и формальные приемы, отказаться от дурацкого № 1 и вернуть себе собственное человеческое имя Ильин Игорь Петрович.
К этой серьезной перемене он подступался давно, начав несколько лет назад все более и более ясно осознавать, что никаким первым и даже вторым, а может, даже и десятым номером не является и уже не станет и, более того, ничего в этом нет ужасного, поскольку и номера эти неизвестно от чего считаются и присваиваются абсолютно произвольно, по выбору совершенно никем не уполномоченных для этого людей, и, следовательно, не только ничего обидного нет в том, чтобы оставаться впредь просто Игорем Петровичем, но даже и достойнее как-то, уважительнее к себе – Игорь Петрович Ильин, и все.
Конечно, к такой жизни, в качестве Игоря Петровича, еще следовало привыкнуть, но об этом он особенно задумываться не стал. В конце-то концов, если и не привыкнет, ничего страшного уже не будет – как нет уже ничего страшного в его сутулости или манере сильно оскаливаться от напряжения, даже небольшого, к примеру, если шел быстро или поднимал что-нибудь хотя бы в пять килограммов весом: потому что не так уж долго осталось сутулиться, скалиться и называться Ильиным И. П., можно потерпеть.
Назвавшись по-новому, вернее, настоящим своим именем, он на этом не остановился, а вскоре, в какой-то незначительной беседе с одним крайне надоедливым и неприятным сослуживцем, сказал то, что давно хотелось, но не позволял себе раньше: «Какой же ты глупый, пошлый, хитрый и жадный мудак, – сказал Игорь Петрович, – как ты мне надоел, да и не мне одному, пошел же ты на хуй!» Сослуживец ужасно обиделся, но не замолчал и не отошел молча, а стал кричать, что раньше не верил, когда про Ильина говорили, что он злой и просто подлый, а теперь верит, и еще чего-то кричал, чем окончательно утвердил Игоря Петровича в том, что и дальше следует говорить только правду.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Александр Кабаков - Группа крови [повесть, рассказы и заметки]](/books/25412/aleksandr-kabakov-gruppa-krovi-povest-rasskazy-thumb.webp)