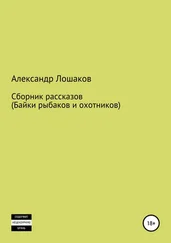Александр Кабаков. Мне отмщение
Самым подходящим во всех отношениях местом был офис.
Обычно к середине дня наступало затишье, народ в кабинет уже не ломился. Лида, работавшая с X. с самого начала, то есть уже лет двадцать, поворачивалась на крутящемся кресле спиной к дверям приемной, ставила на маленький столик рядом с компьютером чашку чая, аккуратно обедала бутербродами с сыром. Пошла она в секретарши из учительниц, когда все рухнуло, а ей, одинокой училке, было уже сильно за тридцать. Крепкая закалка советского педагога помогла ей сохранить ровную строгость и непоколебимую официальность в мате и оре, постоянно летевших из кабинета X. и, казалось, вообще заполнявших любое пространство вокруг этого человека. Называли ее все Лидией Григорьевной, только десяток ветеранов, не покидавших «банду» все это двадцатилетие — или покидавших, но вернувшихся с раскаянием, — позволяли себе «Лидочку», но «вы». Сам X. никаким именем к ней не обращался, указания, краткие и невнятные, поскольку X. слова не договаривал и умело употреблял самый новомодный жаргон, отдавал без обращения и «на ты». Она кивала «да, Виктор Олегович», но некоторые избранные своими ушами слышали, что иногда она к нему обращается тоже «на ты» — впрочем, удивляться можно было только тому, что именно она позволяла себе такую некорректность, прочие-то, вся контора до последнего клерка, «тыкали» президенту совершенно спокойно. Поддерживался как бы революционный, романтический стилек девяностых, и вроде никто его сознательно не консервировал, он самовоспроизводился из воздуха конторы. И ведь стены уже были новые, голубые стеклянные стены новостроенной башни, в которую переехали из легендарной бывшей школы; и народ обновился молодежью, по возрасту годящейся в дети тем, кто теперь в тяжелозадых лимузинах съезжались на совет директоров, а когда-то, тридцатилетними, заваривали всю кашу вместе с юным X., кудрявым и наглым; и вокруг башни шла другая, совсем не романтическая жизнь — а компанию свои люди по-прежнему называли «бандой», друг друга Кольками, Юрками и Ленками, матерились через слово и по утрам рассказывали, кто сколько и до какого беспамятства вчера бухнул.
Надо прийти в обеденное время, подняться по пустым лестницам — народ толпится, ожидая лифтов — и, поднимаясь, позвонить на прямой. Услышать «алё» и удостовериться, что X. на месте. Потом рывок на один лестничный марш вверх, распахнуть дверь в приемную как бы с ходу, как бы торопясь по делу к назначенному часу, бросить на ходу «Лидочка, привет», открыть тяжелую дверь в кабинет.
И пока X. будет неохотно отрываться от компьютерного экрана и поворачивать голову, чтобы увидеть, кто вошел, надо успеть вытащить пистолет.
* * *
N. никогда прежде не задумывался о таких вещах.
Как многих чувственных (что было, то было) людей, его не терзали сильные страсти. Вероятно, именно его равнодушие люди и принимали за доброту. Во всяком случае, у него была репутация очень доброго парня. Все, кто его знал, были уверены, что никогда и ни за что N. не причинял и не причинит никому зла сознательно, разве что нечаянно, не желая того. И даже многочисленные его женщины, которых N. не то чтобы разлюбил, а и не любил никогда, оставленные им из неосознанного страха любви — даже они считали его, конечно, не слишком достойным, но и уж точно не злым, поскольку боль они испытывали из-за него, но явно не по его желанию. Его б воля — N. бы их всех осчастливил, только без его участия. У него и выражение такое было: «отдаю в хорошие руки, ласковая, к чистоте приучена»… Товарищи, сослуживцы и просто собутыльники тоже среди его достоинств — было их немало, например, быстрый ум, точность, добросовестность в любой работе — главным числили доброту. Всегда был готов помочь, хотя, если присмотреться, помощь его обычно была такая, которая от него больших усилий и, тем более, жертв не требовала. Особенно легко помогал деньгами, которые у него водились уже давно, еще когда они мало у кого были. И, что особенно часто ему ставили в заслугу, никому гадостей не делал, интриг не плел. А что ему никогда и не хотелось ничего такого делать именно по равнодушию и безразличию, то об этом никто или почти никто не задумывался.
Только одна женщина считала его отвратительным человеком, предателем и подлецом, который если специально и не толкнет, то по слабому и упавшему пройдет без угрызений совести. Но женщина эта была его женою, а от обиженной жены муж всегда может услышать дурную правду про себя, считай весь остальной мир его хоть святым.
Читать дальше