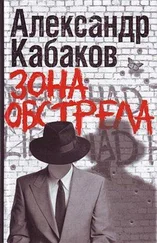Общественное мнение создавал женсовет гарнизона – иногда, гоняя в осенних сумерках на велосипеде кругами по площади перед штабом, я видел, как эти дамы в лисьих горжетках шли в Дом офицеров на очередное свое собрание. Им было о чем поговорить… Адюльтеры сотрясали городок, и один политотдел с ними не справлялся; офицеры много пили – впрочем, само по себе пьянство не осуждалось, если оно не мешало службе и не вело всё к тем же адюльтерам; в городке кроме средней общеобразовательной имелась музыкальная школа, матери соревновались в успехах детей, женсовет занимался родительским комитетом, а уж этот комитет время от времени вызывал отца-офицера, грозил политотделом и требовал обратить внимание на жену и мать его детей, которая детьми не занимается, они отстают по всем предметам и хулиганят, а у нее только портниха на уме и маникюр.
Учился я отлично (и сохранил эту дурацкую привычку навсегда), деньги мы очевидно не копили, пили в семье нормально, как все пили… Едва ли не каждое воскресенье у нас собирались друзья отца, такие же сравнительно молодые офицеры, как он, и, достаточно выпив, пели «Что стоишь, качаясь…», «Услышь меня, хорошая…» и «Лучше нету того цвету». Первые голоса вели жены – правда, они были не у всех, с отцом дружили холостяки, вечно несытые, налегавшие на материно угощение. Один из них, дядя Боря, всегда приходил в гости с бумажным мешком шоколадных конфет и коробкой «Рябины на коньяке» – дальше этого его представления о роскоши не шли… Пили крепко, но расходились рано, потому что утром надо было вставать и ехать на пусковую площадку.
Словом, это была обычная офицерская компания, и нечто вроде тайного романа, как я догадался много позже, зрело внутри нее, и была женская зависть, и мужская слепота, и мечты о новой звездочке на погонах… У компании была одна особенность: она состояла почти исключительно из офицеров-евреев, в Кап Яре их было много, потому что собирали на полигон тех, у кого было хорошее техническое образование. В пятьдесят втором, когда взялись за врачей-вредителей и вообще космополитов, меня – обычно сидевшего за столом вместе со взрослыми и чокавшегося компотом – часто выставляли за дверь, и мне удавалось услышать, легши на пол в прихожей и прижав ухо к щели под дверью в комнату, только отдельные слова. Самым страшным из них было «убийцы»; сначала я думал, что речь идет о капиталистах…
* * *
Зря я это рассказываю здесь. Всё подробно описано – даже большая часть имен сохранена, поскольку людей этих уже давно нет, – в моем романе «Всё поправимо», в первой его, «детской» части. Только отец героя стреляет себе в висок накануне партсобрания, а мой отец благополучно пережил пятьдесят второй. Ему здорово везло, отцу, он и болезни смертельные переживал до поры до времени, и все общие неприятности обошли его стороной. Вообще странно: в моей семье никто не был репрессирован, никто не погиб на войне, хотя все мужчины прошли ее от начала до конца, все умирали своей смертью, причем более или менее в старости… Почему же, когда я думаю об отце, мне становится ужасно обидно – почему я твердо знаю, что он не был счастлив, не стал счастливым за всю жизнь?
Не так давно у меня возникла гипотеза, многое объясняющая и в его, и в моей судьбе, да и вообще в жизни. Гипотеза эта состоит вот в чем: «Счастье наказывается, Бог благоволит к неудачникам». Вроде бы ничего особенного, на поверхности, но стоит задуматься, приложить это к биографиям конкретных, известных вам людей – и многое становится ясно, и уже не задаешься бессмысленным «почему»… Отец не собирался ничем платить за счастье, за успех, за жизненные удачи. Я не думаю, что он считал плату непомерной, – скорей всего, для него была унизительна сама идея расплаты за счастье. Платить было ниже его достоинства, он мог принять от жизни только дар – да и то подумал бы, не налагает ли это на него каких-нибудь обязательств, которые он считал неприемлемыми.
Я часто вспоминаю высокомерную усмешку на его простонародном лице. Себя я одновременно корю и за наследственное высокомерие, и за его нехватку. Я согласился заплатить многим за кое-что. Отец не стал бы.
* * *
Он совершенно не интересовался еврейской общинной жизнью – даже когда уже был в отставке и мог себе это позволить; он почти не знал идиш, хотя учиться начинал в еврейской школе; Израиль его интересовал только как образцово военизированное государство… Но оба известных мне случая, когда он вступил в физический конфликт, связаны с еврейством.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
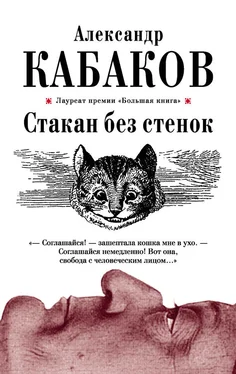

![Александр Кабаков - Группа крови [повесть, рассказы и заметки]](/books/25412/aleksandr-kabakov-gruppa-krovi-povest-rasskazy-thumb.webp)