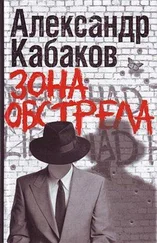…Ночь за ночью мы сидели в тесной Юриной комнате на Спартаковской. Постепенно стало ясно, что едва ли не половину слайдов надо будет делать вручную, рисовать, клеить, монтировать коллажи: из одних документальных фотографий связная и хотя бы более или менее художественная история не выстраивалась. А история должна была получиться, как мы надеялись, весьма художественная – достаточно сказать, что у документально-исторического слайд-фильма был вымышленный герой. Вначале он появлялся мальчиком в матроске под первозданный, пред-джазовый рэгтайм, как бы до революции, потом мы всё видели вроде бы его глазами и на фоне его судьбы – возникала в каких-то отвлеченно-мрачных картинках даже тема большого террора. Очень выразительно строилась главка о первом советском теоретике джаза капитане Колбасьеве, сгинувшем, естественно, в сталинской тюрьме, – его фотография размывалась, будто ее пожирал огонь… Всей этой «художественной частью» занимались сам Юра и Галя, беззвучно исчезавшая на какое-то время в кухне и почти незаметно появлявшаяся снова в полутьме комнаты. Свет от сильных настольных ламп падал только на планшет, на котором создавался очередной рукотворный слайд, а вокруг стояла мгла, в которой плавал сизый табачный дым… Среди ночи приезжал Саша Забрин, привозил очередную подборку фотографий из своего архива… Когда силы кончались, садились выпить и чего-нибудь поесть. Поскольку шла лигачевская борьба с пьянством и в магазинах выпивки было не достать, пили самогон, который я привозил в маленькой пластмассовой канистре с Красноармейской улицы – там одна почтенная семья торговала этим продуктом соединения технического гения русских инженеров с интеллигентским инакомыслием… За поздним ужином говорили только о деле, но постепенно, незаметно разговор сворачивал на какую-нибудь общехудожественную проблему. Это было особым и прекрасным качеством всех разговоров, в которых участвовал Юра. Он вообще-то больше молчал, дымил трубкой, поглядывал поверх очков, но именно он поворачивал беседу к важному, фундаментальному, мимо чего мысль обычно проскакивает, как бы оставляя сложное «на потом». Теперь мне кажется, что я понимаю, почему многие зрелые, состоявшиеся люди относились к Юре как к учителю: в беседах с ним окончательно выстраивалось, оформлялось мировоззрение, формулировалось в словах то, что до этого лишь смутно проступало в сознании, казалось само собой разумеющимся, не было отрефлектировано.
* * *
Я тогда был обычным, вполне освоившим ремесло журналистом, беллетристом же начинающим, а потому постоянно размышлял о природе и сущности текста, вырабатывал отношения со словом, пытался понять степень взаимопроникновения жизни и вымысла… Об этом мы и говорили с Юрой, причем мне, конечно, чрезвычайно льстило, что не я его расспрашиваю об интересном для меня, а он сам заводит такой разговор со мною как с вполне профессионалом, знающим о предмете достаточно, чтобы иметь собственное мнение. Понемногу разговор делался всё оживленнее, и, забыв о том, что время идет к рассвету, я пускался в сложные построения, путался, много курил… Какие-то невероятные прозрения (как правило, назавтра забывавшиеся) посещали меня, в бешеном возбуждении не столько от выпитого – хотя и выпито к этому времени уже бывало порядочно, – сколько от напряженности мыслительного процесса я размахивал руками и орал шепотом, чтобы не разбудить других обитателей квартиры… А Юра дымил трубкой, вставлял пару слов и слушал, внимательно глядя своими удивительно голубыми, слегка как бы слезящимися глазами.
Со стороны сцена выглядела, думаю, весьма романтически. Тесная, узкая комната, заваленная, как тогда было принято в интеллигентских московских жилищах, всяким занятным старым барахлом, от каких-то жестяных коробочек из-под давно съеденных бельгийских конфет до сломанных бронзовых статуэток в стиле раннего модерна. Всюду трубки с остывшим пеплом. На стенах – сплошь работы хозяина и его друзей. Дым слоится в свете подвешенной над рабочим столом-верстаком лампы, тени мечутся в полутьме. Тахта завалена книгами, папками с рисунками и фотографиями. Сломленная поздним временем и усталостью Галя свернулась калачиком и задремала на той же тахте… И сам Юра, сидящий в йоговской позе «лотос», слушает взвинченного собеседника спокойно и внимательно, будто не пошли вторые сутки без сна.
К тому времени внешний его образ совершенно изменился – как и все мы, он оставил в прошлом американский университетский стиль… Точнее, сам этот стиль за бурные шестидесятые и семидесятые стал абсолютно другим, молодежная революция отменила аккуратные стрижки, стильные пиджаки и строгие рубашечки под галстук. И Юра, не снимая, носил джинсы и джинсовую рубаху, туго-кудрявые волосы его цвета salt & pepper свободно росли шапкой-«афро», седые усы были пышны, и все это вместе, дополненное большими очками в стальной оправе, создавало образ вольномыслящего профессора откуда-ни-будь из Бёркли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
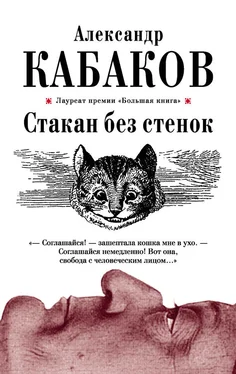

![Александр Кабаков - Группа крови [повесть, рассказы и заметки]](/books/25412/aleksandr-kabakov-gruppa-krovi-povest-rasskazy-thumb.webp)