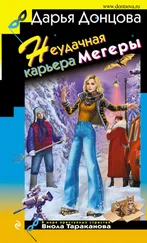Еще одно воскресенье, на этот раз в мае, в часовне, где ослепительное солнце блестит на дарохранительнице, окутанной дымком ладана. Он видит со спины, на фоне резных барочных хоров, придающих службе театральную торжественность, склоненного перед алтарем священника в сверкающем праздничном облачении. Себя он видит среди одетых в белое детей, расставленных полукругом возле органа; капеллан одной рукой извлекает звуки из рокочущего инструмента, другой же, гуттаперчево-бескостной, водит перед своим лицом, со скрупулезной точностью выписывая в воздухе овал за овалом, а иногда — размашистым движением срезая их наискось. Окруженный другими хористами, он ощущает извечное стихийное ликование, каким наполняет любого человека причастность к общему пению (если же поют в церкви, этому восторгу покоряются и самые далекие от религии умы), но вместе с тем инстинктивную боязнь отдаться своей радости до конца, позволить ей перерасти в бездумное упоение, когда рассудок, ослабев, уже не сможет сопротивляться чувству, способному его погубить. И он старается петь еле слышно, почти до неразличимости растворяя свой голос в хоре, — но все же, чтобы его не упрекнули в недостатке усердия, делает вид, будто поет всерьез, подчеркивая это мимикой, напрягая мышцы и шумно переводя дыхание во время каждой паузы. Скованный плотным одеянием, тяжело падающим на его небрежно зашнурованные ботинки, он превратился в иератическую фигуру, он отделен пропастью от обычных людей — безликой толпы подростков в школьной форме и учителей в сутанах, низведенных до положения статистов, — и в то же время соединен тайным родством со священником, облачающимся, дабы со всей торжественностью исполнить свои высокие обязанности, в позолоченную ризу, подобно тому как сам он, готовясь петь в хоре, надевает белоснежный стихарь. И когда щемящие, нежные голоса детей, поддержанные мощными органными раскатами, взмывают ввысь, он перестает себя сдерживать и присоединяется к ним, ибо вдруг сознает, что ревностное участие в службе более всего поможет ему слиться с тем, что священник именует Богом, с тем, чему сегодня он не может дать названия, поскольку слова слишком ничтожны и беспомощны, чтобы выразить неповторимую суть тогдашнего откровения, похожего на слепящую вспышку молнии (к тому же, вспоминая происшедшее, он был вынужден ходить вокруг да около, а значит, некоторые детали восстановленной им картины могут быть порождены более поздними фантазиями). В это мгновение как будто налетает сильный ветер, все отступает прочь. В нем разверзается громадная пустота, она же и верх наполненности. Благодаря странной волшебной силе, смысл которой ему наконец доступен, он чувствует себя заново родившимся, внезапно извергнутым из пространства и времени в иной, насквозь ясный мир, где находят разрешение все мучительные противоречия, лишавшие его покоя. Священная песнь сопровождает это удивительное перемещение, и он, зная, что принадлежит к числу самых незначительных участников хора, тем не менее с гордостью представляет себе, будто она исходит от него одного — будто он и есть сама эта песнь. И действительно, каждый раз, когда его голос вроде бы достигает своих пределов, оказывается, что он, словно вовлекаясь в какое-то постоянно ускоряющееся движение, может их преодолеть, продолжить этот бесконечный головокружительный подъем. С легкостью удесятеряя свою мощь, его голос наконец перекрывает голоса других детей: их он больше не слышит, пронизанный до мозга костей собственным пением. Так, в ходе превращения, которое теперь припоминается с большим трудом, поскольку в нем было что-то непонятное и магическое, его голос постепенно становится орудием его власти, свидетельством его победы. Все, чего, казалось, можно было достигнуть только с помощью долгой и методичной практики молчания, он стяжает в одно мгновение, неожиданно найдя опору в старинном гимне, посвященном столь избитой теме, как слава Творца и немощь его созданий. Но кого-кого, а его немощным больше не назовешь, и если он кого-нибудь славит — во все горло, с безрассудной растратой сил, — то лишь самого себя: как если бы его детский голос обрел невообразимую звонкость, как если бы то, о чем он кричал небу, было особым счастьем, которому не будет конца. И в то время как этот голос, взлетевший высоко-высоко над хорами, гремит, наполняя часовню непререкаемо-повелительными звуками, от всего его тела исходит нечто солнечное: кажется, что пение покрывает его пламенеющим плащом. Он видит свое сомнамбулическое и, хотя губы его чеканят латинские слоги, внутренне окаменелое лицо, которое делает его похожим на статую в перекрестье прожекторных лучей, стоящую на высоком постаменте и устремившую взгляд в недостижимую высь; время от времени он проводит рукой по лбу, по глазам или приподнимает свой белый стихарь, чтобы потереть ногу, но эти непринужденные мальчишеские жесты не умаляют, а напротив, лишь оттеняют его достоинство. Поддавшись здесь, возможно, ретроспективной мании величия, он видит, как все дети ошеломленно глядят на ребенка, которым он был, как учителя, наклонившиеся к пюпитрам молитвенных скамей, чтобы не упустить ни одной подробности этого влекущего и тревожного зрелища, жадно внимают его голосу, словно тот принадлежит какому-то демиургу, да и сам священник, поначалу остававшийся для него лишь силуэтом, лишь пятном сияющей ризы, дважды, в нарушение чина литургии, до тех пор строго соблюдавшегося, поворачивается едва ли не кругом, чтобы лучше слышать это блистательное песнопение, ибо оно его неодолимо притягивает и даже заставляет качнуться на алтарных ступенях, — впрочем, вместо того чтобы впиться взглядом в чудесного певца (сейчас он не узнал бы в нем мальчишку, чьи постоянные смешки во время школьных занятий выдают крайнюю непочтительность), он закрывает глаза и все то время, пока обращен к участникам богослужения, не разжимает век, держа свои большие ладони перед лицом, как будто хочет ими заслониться, чтобы вновь сосредоточиться, чтобы скрыть подступающие слезы. И когда детские голоса наконец слабеют, истаивая в заключительном «Amen», которое капеллан подкрепляет и длит последним движением застывающего в воздухе пальца, воцаряется тишина — точь-в-точь такая, какая разлита в небесной выси над грозовыми облаками. Тут священник снова, на этот раз в соответствии с чином, поворачивается, чтобы протянуть слабым, потрясенным голосом: «Ite missa est» [6] Ступайте, месса кончена (лат.).
, и слова эти, пришедшие, кажется, из какого-то безблагодатного мира, самым жалким образом завершают богослужение, которому обычный ребенок сумел придать на миг нечеловеческое величие.
Читать дальше