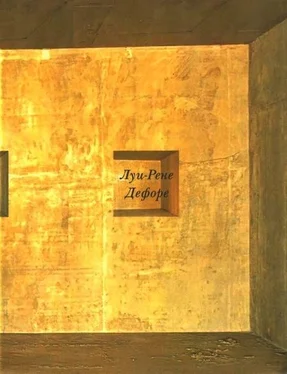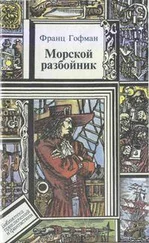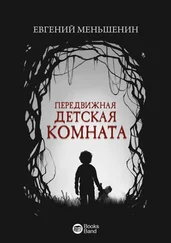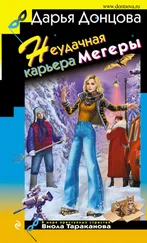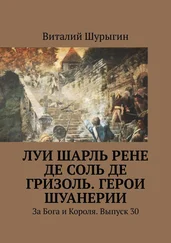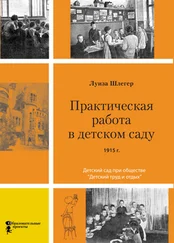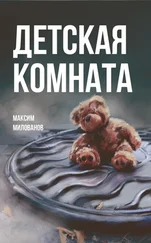Еще одна сцена разрывает цепочку этих эпизодов, каждый из которых похож на периодическое возвращение предыдущих, — впрочем, в один день ромбы высоких окон окрашивает в желтый цвет солнце, в другой, может быть несколько раньше, он с отвращением разглядывает содержимое своей тарелки; иногда он склонен относиться к происходящему драматически, иногда — иронически; встречая ежедневное испытание, он, как правило, чувствует страх, но бывает и так, что молчание, требующее от него героизма и мужественности, придает ему сил, укрепляет его решимость (каждое воспоминание имеет свой специфический оттенок, они так многочисленны, так разнообразны, что и при идеальной памяти этот мысленный перечень был бы практически бесконечным). Всем эпизодам сопутствует накаленная, предгрозовая атмосфера, но шестой составляет исключение: здесь он слышит собственный детский голос, от долгого молчания огрубевший и, возможно, слишком громкий, как если бы он звучал в безлюдном месте, — и голос этот, мешаясь с шумом волн, набегающих на морской берег, с нестройным гомоном птиц, отвечает на вопросы, которые вполне дружелюбно задает ему одноклассник, неловко шагающий рядом по скользкой гальке. Он слышит звук этих быстрых шагов; он вспоминает и голос спутника: рассудительный, простодушный басок юнца, вошедшего в переходный возраст; он видит пристальный взгляд его синих глаз, видит, как жадно тот всматривается в его лицо, словно пытаясь разгадать мучительную тайну. Четыре часа дня, их вывели прогуляться на берег океана, где затяжными порывами дует резкий апрельский ветер.
«Сколько ты еще намерен… Слышишь? По-моему, ты не совсем прав, что так…» — «Продолжай, не бойся. Ну же!» — «Будь осторожнее. Они очень сильные, очень хитрые, они от тебя не отстанут». — «Ошибаешься. Им несладко приходится, да и тебе, я вижу, тоже — иначе зачем бы ты вдруг стал со мной говорить, наводить мосты?» — «Как наводить мосты? Я же на твоей стороне!» — «Да, со мною ты против них, а наделе — против меня». — «Но тогда я был бы твоим врагом. Разве это так?» — «Так. Ты не лучше других». — «И тем не менее со мной ты разговариваешь!» — «Я бы и с ними разговаривал, если бы они ко мне обращались. Они хоть раз пробовали? Они же со мной не говорят, да что там — они и обо мне не говорят; вообще непонятно, о ком они говорят все время! Они слышат только себя, но их самих кто станет слушать?» — «Что ты! Они только и говорят, что о тебе!» — «Вот как? А может быть, о себе? Ты думаешь, тот, о ком они говорят, действительно я?» — «Постой: но я-то уж точно говорю с тобой, ведь мне ты отвечаешь». — «Да, ты говоришь с тем, кого видишь, — он тебе и отвечает». — «Ах так? Тогда скажи, как именно я тебя вижу?» — «Ты приглядываешься к тому, кто перед тобой, ты хочешь подступиться к нему как можно ближе…» — «И понимаю, что ему не нужен ни я, ни кто-либо другой!» — «Так или иначе, ты видишь меня, а для них — уже и для них! — я давно перестал быть тем, кого они изо дня в день смешивают с грязью! В этом моя сила: они больше не верят собственным словам, им самим надоело все, что они городят». — «Такты считаешь, что победил?» — «Когда я уже не буду ни тем, кем я был, ни тем, кто я есть, ни тем, в кого они хотят меня превратить, когда они больше не смогут говорить обо мне…»
Он подозревает, что здесь его мысль поддалась риторическому соблазну. Стараясь воспроизвести этот диалог в исходной форме, он растворил его в бесчисленных вариациях, ставящих под сомнение подлинность результата (самая первая, еще не ретушированная версия была, возможно, наиболее правдивой); и все-таки, даже если каждое отдельно взятое слово двух детей, звучащее в его ушах, недостоверно, в совокупности эти слова не искажают смысла беседы, состоявшейся между ними в то апрельское воскресенье, когда им не было и четырнадцати, они служат ее точным переводом на язык, доступный пониманию человека, размышляющего о своем прошлом, — ведь никак иначе взрослый не способен передать то, что говорил в детстве. Только сами звуки, только предметы и фигуры могут без конца возвращаться к нам такими, какими они были, и становиться, при всем различии их выпуклости или яркости, подобием живых ориентиров во времени: кайма желтого снега, трепещущая воланами над линией прибоя, неустанный грохот волн, планшир затонувшего корабля, ботинок, до крови натерший лодыжку, крики птиц, доносящиеся с моря, голоса беседующих, его собственный, по-детски пронзительный голос — все то, что, поднимаясь из глубин памяти, тревожит чувства напрямую, минуя разум, как речь, истинное значение которой зависит от тембра, от интонации говорящего и скорее от выраженных эмоций, нежели от способа их выражения. Если слова и не те же самые, их содержание в точности то же, так что эту версию, пусть несовершенную и, видимо, предварительную, надо признать одной из наиболее верных. Впрочем, остается еще фраза, для которой память не может найти должного места, то ли потому, что она вырвалась из его детской груди каким-то неудержимым воплем и дышала чисто мальчишеским пафосом, то ли потому, что он ошибается, связывая ее с этой ситуацией, когда вроде бы мог сказать именно так «И я улечу, оставив моих врагов далеко позади!» Дерзкая фраза, брошенная лишь затем, чтобы произвести впечатление на собеседника, но потрясшая его самого, как иные стихотворения, логический и грамматический смысл которых проясняется уже после того, как мы насладились их очарованием. Возможно, в этом крике следует видеть не только признак душевной слабости, поскольку сказанное подтвердится в седьмом и восьмом эпизодах, где, чудесным образом воспарив, он ускользнет от недругов, общими усилиями добивавшихся его поражения, где он будет по-прежнему слышать ранящие слова и видеть озлобленные лица, но уже на правах надежно защищенного человека, который, ловко взобравшись на неприступную высоту и чувствуя свою неуязвимость, может спокойно развлекаться панорамным обзором вражеских войск, бессильных его оттуда прогнать, — он вознесется над местью, ненавистью, угрозами, оскорблениями и этим величественным освободительным полетом повергнет в смятение всех: и своих учителей, и одноклассников, посмевших назваться его судьями.
Читать дальше