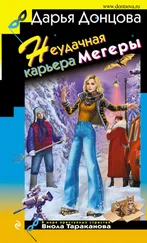Вопрос был дерзким, и я тут же покраснел, словно допустил какую-то бестактность. Мольери ворчливо забормотал:
— Бросил, бросил… еще одно журналистское словечко, они все переводят на свой газетный язык! Бросил… какая глупость!
Потом взглянул на меня с улыбкой:
— Положим, вы лишились способности ходить — ну и как после этого, вы по-прежнему ходили бы? Неужели не понятно: я больше не могу петь, вот и не пою. По-вашему, это называется «бросил»?
В его голосе не чувствовалось горечи и тем более гнева, он говорил с жестокой прямотой, как бы желая исчерпать тему в нескольких словах, — может быть, чересчур торопливо, чтобы поскорее от нее отделаться. Этот откровенный тон сам по себе должен был меня образумить, но я, забыв о всех приличиях, пошел еще дальше (я тоже спешил покончить с этим разговором, не доставлявшим мне, кстати, никакого удовольствия: я завел его только потому, что не мог забыть о той мучительной ночи).
— Но вы от этого не страдаете?
— А вот это вопрос излишний! — насмешливо отозвался он.
Я продолжал наседать с неслыханной наглостью, какую можно было бы объяснить только равнодушием и бессердечием (ибо, страстно желая узнать разгадку, боялся, что Мольери это почувствует и мне ничего не скажет):
— Почему же?
— Потому что любой ответ на него тоже будет излишним. Разве могут что-нибудь изменить наши самые прекрасные грезы, если мы не способны их осуществить? Возможно, я и страдаю, потеряв то, что имел, но это ровно ничего не значит, это никому не интересно.
— Кроме меня, может быть, — не слишком твердо возразил я.
— Бросьте! Вам до этого нет дела, как и всем остальным.
— Даже Анне Ферковиц?
Он остановился и пожал плечами:
— Вы шутите! Теперь ваша подруга счастлива, она наконец освободилась! Ее чувство ко мне было только капризом, она сама это подтвердит, — и теперь она, конечно, своим капризом не слишком гордится. В тот вечер я ей оказал большую услугу… — добавил он хитро.
— Так с вашей стороны это была жертва? — Мной овладела безумная смелость, объяснявшаяся не только любопытством, я чувствовал, что способен пойти дальше, как угодно далеко: ничто не могло бы меня остановить. И тут я впервые увидел, как он нетерпеливо замахал рукой:
— Да нет же, вы меня совсем не поняли! По правде говоря, ваша подруга мне не чрезмерно нравится, я никогда не думал о том, чтобы ее соблазнить. Я вообще не из тех, кто склонен пользоваться ситуацией.
— Простите, но по меньшей мере однажды вы сумели ситуацией воспользоваться. И кто вас в этом упрекнет?
Мольери посмотрел на меня с удивлением:
— Однажды? Вы намекаете на то, что какой-то дурак назвал божественной удачей, позволившей мне стать певцом?
Он расхохотался:
— Поверьте, это не была случайная ситуация, стечение обстоятельств, которое никак нельзя было пропустить, нет, вовсе нет! — повторял он, все также смеясь. — Я охотно принимаю то, что мне дают, и так же легко позволяю это у меня забрать! Но в тот раз, мне кажется, кто-то — не я сам, кто-то другой — все очень тонко подготовил, не побрезговав, возможно, даже насилием…
— Значит, это было заранее подстроено? — спросил я с замирающим сердцем (все мои надежды были связаны с его ответом).
— Так говорили, — ответил он брюзгливым тоном, как будто собирался взять свои слова обратно. — А недавно сумели более чем убедительно доказать, что в своем последнем выступлении я подражал манере венского певца, который тогда почувствовал себя плохо и принес мне эту божественную удачу. Эти журналисты такого наговорят…
— Но вы сами говорить вообще не хотите, — горько заметил я.
— А вы, похоже, мастер развязывать язык даже тем, кому и сказать нечего!
Не обращая внимания на его насмешки, я гнул свою линию, чувствуя, что от этих расспросов, представлявшихся мне, впрочем, тягостными и бесполезными, у меня начинает кружиться голова.
— Стало быть, вы можете… больше не петь?
— Я больше не могу петь, — поправил он меня самым добродушным образом.
— Но если бы могли, то пели бы?
Он бросил на меня хмурый взгляд: в нем читалось замешательство, усталость и, возможно, недовольство:
— До чего же мне не по вкусу эти ваши «если»: какие-то они глупые, праздные.
— Вы не хотите мне отвечать? — гневно воскликнул я.
— Поймите вы… Разве я могу влезть в шкуру человека, которым перестал быть — или, может быть, вновь сделаюсь когда-нибудь, но не сейчас, не в эту минуту? Зачем мне ломать перед вами шута?
Читать дальше