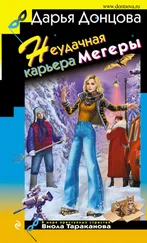О том вечере у меня почти не осталось воспоминаний, представляющих интерес. Анна и Мольери — трое господ вступали много реже — вели бессвязный шутливый разговор, постоянно обманывавший мои ожидания. Я не мог понять, отчего они так старательно избегают сколько-нибудь серьезных тем: может быть, дело было в моем присутствии и эта дурацкая болтовня защищала их от моего законного любопытства? Но вот чего я не забыл и не забуду никогда, так это дичайшего — поистине гнусного — жеста, которым Мольери отшвырнул руку Анны, когда та положила ее на его руку Его взгляд помутнел от гадливости, лицо гневно искривилось. Анна не повела и бровью, как будто ее не подвергли публично столь грубому оскорблению. Все выглядело так, словно ее жест и ответный жест Мольери были лишены смысла, не создавали причин для беспокойства, вообще ничего не значили ни для нее, ни для него. Чтобы отвлечь внимание от случившегося, я попросил Мольери объяснить мне кое-какие темные места драмы, в которой тот сегодня играл, — тут он прикинулся чудовищным невеждой, объявил, жалко улыбаясь, что даже не заглядывал в это идиотское либретто: просто затвердил свою партию на немецком языке наизусть, не понимая ни единого слова. «Я ищу наслаждения только в пении, в нем одном», — признался он.
— Но все-таки, — возразил я, — вы на время сделались Каспаром, этим проклятым охотником!
— Ну и что? Он ведь просто опереточный черт, куда менее вредный, чем Дон Жуан… да и Дон Жуан в сущности не такой уж злодей… — И Мольери пожаловался на скудость репертуара: трудно найти мужскую фигуру, которая была бы одновременно орудием зла и его жертвой. (Помню, во время другой нашей встречи он сказал мне, что есть лишь две партии, какие ему хотелось бы исполнить: Кармен, и еще Лулу из оперы Альбана Берга. «А что вам мешает спеть и ту, и другую?» — шутливо заметила тогда Анна.) Остаток вечера мы провели за обсуждением пустячных артистических сплетен, каких-то недомоганий и тому подобных мелочей, не сохранившихся в памяти.
На следующий день Анна Ферковиц позвонила мне в гостиницу, к моему удивлению, она стала упрекать меня в том, что накануне я держался слишком холодно. Мы же старые друзья, откуда такая церемонность? Она не шутя уверяла, что провела мучительную ночь, что не сомкнула глаз, думая о моем вчерашнем поведении. Я возразил довольно живо, вернув Анне ее упреки, но она вновь повторила их с искренней обидой в голосе (никто не был так далек от притворства, как эта женщина). Затем, не менее яростно и гораздо более проницательно, она обвинила меня в том, что я не оценил по достоинству Мольери: «Вы его считаете ничтожеством, сознайтесь! Верно я говорю?» И, чеканя слоги, произнесла еще и еще раз: «Ничтожеством, так ведь?» Я отделался худшей из банальностей: дескать, столь одаренный артист ничтожеством быть не может, — но это, похоже, окончательно вывело ее из себя. «Знаете что, мой милый? Сам Мольери, услышь он эти слова, рассмеялся бы вам в лицо!» И у меня возникло впечатление, что Мольери слышит наш разговор, что он действительно рассмеялся.
Мне льстило, что Анна высоко ценит мое мнение, но я с беспокойством спрашивал себя: не потому ли она так сердится, что не до конца утвердилась в своем собственном, — как иначе объяснить этот гневный голос, этот странный ультимативный тон? У меня было чувство, что она подвергла меня какому-то испытанию, которое я выдержал из рук вон плохо. В конце концов мы условились о новой встрече. Но перед тем я еще раз побывал в Ковент-Гардене, где Мольери пел в «Отелло»: опера шла на итальянском, и на этот раз он не мог бы с чистой совестью заявить, будто ничего не смыслит в тексте, написанном на его родном языке. Тем не менее было очевидно, что выразительная сила его голоса, граничившая с чудом, делает слова ненужными, а мимике и жестам, обычно столь важным для понимания музыкальной драмы, придает несколько утрированный характер: этот голос сам по себе был особым языком, и сейчас — в точности тем, каким говорит ревность. Воздержусь от более подробных комментариев по поводу этого представления, в ходе которого я вновь почувствовал, что Мольери вызывает во мне почти мучительное любопытство. Скажу лишь, что, заметив в антракте Анну, склонившуюся над краем ложи, где мы сидели вместе вчера, я задушил в себе желание подойти к ней в фойе, — так сильно не хотелось испытать новое разочарование после спектакля. И в гостиницу вернулся до того перевозбужденным, что в свою очередь не мог сомкнуть глаз всю ночь.
Читать дальше