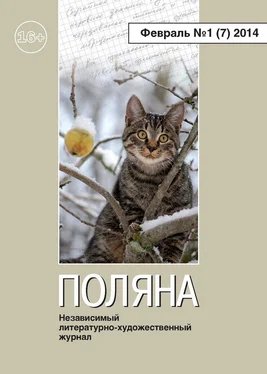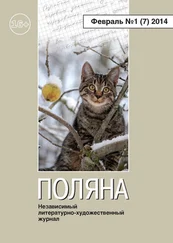Шуршит трава, бухтит в груди, а на душе тревожно — так попались на Витькину удочку, кому поверили! Ох, и расхохочется он! Ох, и пойдет треп по поселку! И назад повернуть невозможно — а вдруг не обманул?!
Три шага вверх, кто-то оступился, чертыхнулся, поднялся — Витька сурово глянул на него, погрозился кулаком. Нет, не обманул: стал бы он так просто грозиться.
Еще три шага, потом еще один и…
— Вон они! Ух, успели!! — наш проводник гордо протянул правую руку вперед, и мы все разом увидели их в ложбинке на склоне соседнего холма, тоже густо поросшего травой, тоже высокого.
Нас разделяли небольшие деревца, кустарник, прудик. В нем плыли мохнатые белые облака, чем-то напоминающие холмы и холмики карьера — как будто не небо было над нами, а огромное, синее зеркало, такое огромное и синее, что, отражаясь в нем, земля наша черно-зелено-рыжая поголубела, а все холмики и холмы, тропки и дорожки между ними перекрасились в серо-бело-синие тона.
— Смотри, ха-ха, — кто-то хохотнул, но тут же умолк, внимательно рассматривая до оскомины знакомый пейзаж карьера. А там, в ложбинке соседнего холма, два взрослых человеческих тела, не желая замечать нас — остолбеневших, огромное зеркало над собой, в котором все мы отражались — серо-бело-голубые, шуршание обезумевшей от порывов ветра травы, там два человеческих тела ласкали друг друга обмякшими руками, колыхались в ритме ветра вместе с плясуньей-травой, очень похожие в линиях, движениях и усталой упрямости на котят, ворошащихся возле мамы в поисках соска.
Мы смотрели на них, отрешенных от нашего буйного мира, а в прудике плавало небо, и в небе, где-то высоко-высоко, так высоко, что дух захватывало, в ложбинке на склоне холма, не замечая ничего вокруг, два человеческих тела ласкали друг друга.
— У черт, домино-то я на столе оставил! — сказал владелец домино, будто мы собирались здесь «забивать козла», но этот голос оторвал нас от ложбинки, вернул в действительность, и мы потопали: сначала по траве — шур-шур, потом гуськом по тропе — топ-топ, пока не вышли на дорогу.
— Витька, а кто это?
— Сказал, Кудря башку оторвет!
— Мы никому, могила!
— Идите вы!
Витька был пацан железный, но у самого поселка он сдался:
— Сашка это Серый. Его завтра в Морфлот забирают. На четыре года. А то и больше. Она ему все нет да нет, а сегодня вот сама…
— А кто она-то?
Но в это время мы подошли к доминошному столу, и Витька увернулся от расспросов:
— Забил! Я сейчас играю! Кто со мной?
Через четыре с половиной года мы вновь увидели Сашку Серого. В черном костюме, в голубой нейлоновой рубашке, под которой просвечивались волнами все моря и океаны, шел он под руку с девушкой и болтал с ней, никого и ничего вокруг себя не замечая.
«Она» это была или не «она», мы не знали, потому что «проводника» нашего недавно забрали в армию, но как улыбался ей Сашка, как смотрел на нее, как мы завидовали ему! Молча завидовали, не сознаваясь в этом даже самим себе.
А позавидовать было чему. У всех у нас в карманах лежали повестки: кому на двадцатое ноября, кому на двадцать третье, кому — на тридцатое. «С вещами». А на улице дождь со снегом, холод собачий, серое густое марево вместо неба с облаками и солнцем и… какая уж тут девчонка пойдет в карьер по такой погоде!
«Чёрный свет, белая тьма…»
Разлеглось повсюду отечество.
Родная, чужая, слепая страна, —
кресты, купола, сума да тюрьма…
Я не хочу сойти здесь с ума.
Ненависть к родине — это не лечится.
Россия, Расея… Всё те же дела, —
пошла писать кренделя:
бабло, купола, ответ за «козла»,
телевизионное «бла-бла-бла»,
всенародное вечное «бля»…
Чёрный свет. Белая тьма.
И полны закрома векового дерьма.
…Но ведь было! — Серебряный морок берёз,
и над Лизиным прудом — мерцанье стрекоз,
и Татьяна гадала в крещенский мороз,
и сияла вдали Покрова на Нерли…
Что же? Всё под откос?
«Отвали, досвидос»?
Белоснежная нежная тьма.
Русь моя, где ты? А где я сама?
— Бездорожье. Безвременье. Безнадёга.
И повсюду, повсюду отечество
разлеглось.
Где же к храму дорога?
— Нет ответа. Нет слёз. Досвидос.
Ненависть к родине — это не лечится.
Ветер с восточного склона
Бабушка Хуифанг [4] Хуифанг — китайское имя, в переводе — «добрая и ароматная».
умирала. Надежда теплится, как поздние астры горят в засыпанном первым снегом саду, родные толпились вокруг, то и дело обращаясь в молитвах к богам, но силы уходили из по-прежнему изящного тела. Хуифанг угасала, как цветы, почувствовавшие заморозки, что ввергало в печаль всех домочадцев. Даже маленькая Веики [5] Веики — «сохраняющая любовь».
, всеобщая любимица, не понимая, отчего бабушка, обычно веселая и красивая, постоянно лежит последние недели, прониклась серьезностью общего настроения, поэтому сидела спокойно около постели, напевая бабушкины любимые песенки или лично поднося по часам чашку с лекарственным чаем, собранным теткой Дэйю [6] Дэйю — «черный нефрит».
.
Читать дальше