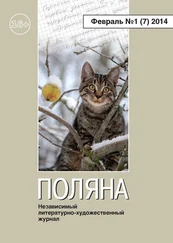Евдоким еще долго возился, подтыкая под раненого спальник и устраивая ему удобное изголовье. Сам он прошел к костру и расстелил подле него оленью шкуру.
— Янго! — позвал негромко.
Рыжий пес, самый крупный, подошел, ласкаясь. Старик погладил его, потрепал и уложил рядом, со спины.
Часа через два заметно похолодало. Дед, пригретый собакой, продолжал спать у потухающего костра. В это время два других пса покончили с обнюхиванием незнакомых предметов и обследованием местности. Как-то незаметно, оба разом, оказались они подле рюкзака с мясом. Некоторое время псы спокойно лежали рядом с лакомством, настороженно пошевеливая ушами, зорко вглядываясь в спину спящего хозяина, Наконец, обе морды одновременно рванули плотную ткань. Рюкзак, и без того лопнувший по шву, затрещал и порвался. Спокойно, без драки, недозволенное пиршество началось. Но Евдоким не проснулся.
Тогда Янго, через силу терпевший подобное нахальство и давно уже подбиравший слюну, начал помаленьку-потихоньку, миллиметр за миллиметром отодвигаться от спины хозяина. Еще минута — и он поспешил за своей долей. Негромкий рык, демонстрация клыков и — грабь награбленное — достался и Янго хороший кус. Через час, оставив на мху чисто обработанные кости, псы разбрелись по своим местам: Ургал и Минго под тележку, Янго опять прикрыл хозяина со спины.
Тут выкатилось пышное кустодиевское солнце и враз пригрело отсыревшую палатку, отдыхающих собак и спящего деда, очень похожего издали просто на кусок оленьей шкуры.
* * *
Евдоким стал прикладывать к ране повязки из мелко нарубленных мясистых листьев полярной ивы. Из пораженного места начали обильно выделяться гной и обрывки ниток от пробитого пулей воротника куртки. Жар у больного прошел, опухоль спала, и на пятый день Евдоким решил возвращаться в зимовье.
Рано утром уложил он раненого и его оружие на тележку, собаки тихо тронули, палатка и могилка остались позади. Белый нюча был крепкий мужчина, он пробовал идти сам, но, видя как трудно ему держать голову, Евдоким укладывал его в тележку.
Завидев избушку, собаки сильнее натянули алыки, дед радостно всполошился, но Андрей только горестно сомкнул тяжелые веки: над крышей высоко взметнулась тонкая жердь с антенной. Рация…
В зимовье, столь маленьком, что рослый человек, раскинув руки в стороны, свободно достал бы от стены до стены, темно и сыро. Евдоким держал геолога за руку, пробуя пристроить его на нижние нары. Но тот вдруг покачнулся и локтем сбил со стола ящичек рации.
— Ай-я, — запричитал дед, — как теперя доктора визивать буду? — Он поднял аппарат на стол и принялся подсоединять оборванные провода питания, затем уложил Андрея на нары и поспешил к ручью за водой.
Оставшись один, геолог дотянулся до рации, открыл гнездо предохранителя и ногтем выколупнул тонкий стеклянный баллончик. Если рация, паче чаяния, осталась цела, дед вряд ли догадается сменить предохранитель, да и есть ли у него запасные…
Евдоким, вернувшись с ведром воды, застал геолога таким же слабым, как и в первый день, а из-под повязки опять показалась кровь. Но в дальнейшем дело быстро пошло на поправку. Проснувшись однажды утром от упавшего на лицо солнечного луча, Андрей, вдруг радостно почувствовал себя отдохнувшим и крепким. Осторожно оторвал голову от подушки, повернул ее направо-налево и чуть не рассмеялся: исчезла тупая, тяжелая боль, наконец-то можно будет умыться самому!
Деда не было в избе: он встал еще раньше и сейчас, очевидно, проверял сети на озере.
Убранство избушки было крайне простым. Двое нар, столик у окна, два чурбана вместо стульев, печка, рукомойник и длинная полка над нарами. На полке виднелся ящичек с инструментом, мотки рыбацких шнуров и ниток, несколько старых журналов, прямоугольный сверток из ровдуги [3] Ровдуга — тонко выделанная оленья или нерпичья шкура.
и, в самом углу, большая темная шахматная доска!
Фигурки, старательно вырезанные из мамонтовой кости, были все в наличии, видно, когда к Евдокиму наезжали гости, шахматами пользовались.
А в свертке из ровдуги оказалась Библия! Старое, дореволюционное издание на церковно-славянском языке в кожаном переплете с серебряными застежками.
Тяжелая эта книга производила впечатление вещи живой и теплой, как будто сохранила она тепло тысяч рук, впитала свет тысяч глаз представителей самых разных народов, печатавших, переплетавших перевозивших эту ценность на край света, в таймырскую тундру, где она переходила от отца к сыну, уцелев от всех потрясений века.
Читать дальше