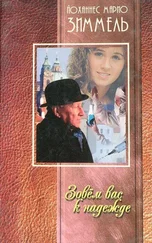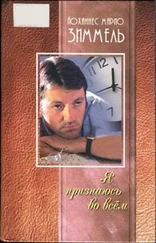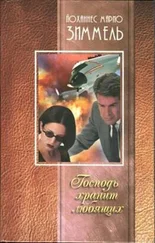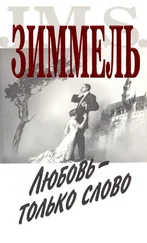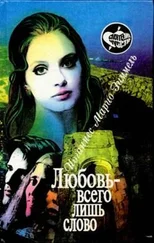— Ничего я тебя не выдам. — Они как раз подъезжали к повороту на Эттлинген. Рупрехт мягко повернул руль. — Так что там с Паркером? И почему ему понадобилось говорить обо мне? Да говори же ты, в конце концов!
— Ты… ты не забыл, как я тебя предупреждал, что впредь «Дельфи» не сможет позволить себе роскоши удерживать тебя, потому что есть подозрение, что Ким с помощью шантажа сможет заполучить для кого-то секретные сведения нашей фирмы…
— Ну, и…
— Ну, и… И Паркер спросил меня, допускаю ли я мысль, что…
— Что «что»? Не тяни ты!
— …что Ким будет тебя… — это всего лишь подозрение, причем вполне допустимое, — что он будет тебя шантажировать… Может быть, угрожать чем-то твоей жене… или какой-нибудь твоей женщине… Это, насчет женщины, он сам, Паркер, сказал, не я. У тебя же вроде никакой подруги нет… — он ухмыльнулся. — Короче, что Ким может через тебя завладеть какими-нибудь важными материалами «Дельфи»… Не смотри на меня так! — закричал Ратоф. — Должен же я тебе сказать, о чем говорил Паркер! Не то чтобы ты сам готов был пойти на это, нет, упаси господь, нет! Но каким-то образом ты можешь оказаться замешанным в преступлении, в результате стечения каких-нибудь обстоятельств… Назовешь, к примеру, совершенно случайно какой-нибудь код… или адрес в интернете… даже что-то попроще, мелочь какая-то произойдет, случайный сбой — и пошло-поехало…
— Что за бред! — взбесился Сорель. — Никому пока еще не известно, проникли ли вирусы в главный компьютер вычислительного центра, и если да, то каким образом. И кто вообще повинен в этой катастрофе в Берлине. Это всего лишь предположение, одна из возможностей. И Паркер не смеет исходить из того, что…
— Я это же говорил ему, — запричитал вдруг Ратоф. — И повторял десятки раз, честное слово, Филипп. In dubio pro reo [63] В сомнительном случае — в пользу обвиняемого (лат.).
, — говорил я.
— В каком это смысле? Ты что, спятил? Кто тут обвиняемый? И кто обвиняет?
— Так говорит закон! Я ничего другого не подразумевал. Нет доказательств — не должно быть места подозрениям! Ну, с этим он согласился. Я, конечно, сказал Паркеру, что это совершенно безумная идея, что он должен отбросить ее, что ты лучше умрешь, чем…
— Дональд?
— Да, Филипп?
— С меня хватит, закрой рот! Я все понял.
— Не забывай, что я защищал тебя, как лев. Я объяснял Паркеру, чем «Дельфи» тебе обязана, что в фирме ты всегда пользовался всеобщим и абсолютным доверием. Ты ведь веришь мне, Филипп?
— Конечно, Дональд. — Сорель чувствовал себя отвратительно. — Спасибо, что ты рассказал мне обо всем.
— Это мой долг, дружище. Я ведь за тебя в огонь и в воду, ты же знаешь…
— Да, знаю.
— Боже мой, какое горе для тебя иметь такого сына, как Ким… А вот моя Николь… Представляешь себе: ее научный руководитель, профессор, получил приглашение прочесть в течение полугода курс лекций в Университете имени Гёте во Франкфурте, и спонсоры из Принстона выбрали ему в ассистенты не кого-нибудь, а нашу Николь! Николь! На будущей неделе она перебирается во Франкфурт на весь семестр — что опять такое?
Машина остановилась перед красивым зданием, окруженным высоченными деревьями.
— Мы приехали, — сказал Филипп.
Шут.
Когда он, наконец, остался в отеле один — Ратоф и Рупрехт попрощались с ним и возвращались теперь во Франкфурт, ему вдруг вспомнился шут. Памятник шуту стоял у колодца перед дворцом в Эттлингене. «Странно, что он запомнился мне во всех подробностях», — подумал Филипп, ходя взад и вперед по своему просторному номеру. Они опять сняли для него «люкс» под номером шестьдесят шесть, тот самый, в котором он два года назад прожил много месяцев. С тех пор здесь мало что изменилось: все та же солидная старая мебель, ковры, покрывающие весь пол, зеркальный шкаф, ниша с письменным столом, три напольные вазы со свежими цветами. Под панорамным, во всю стену, окном росло столетнее дерево, ветви и листья которого так и заглядывали в салон.
Шут.
«Нет, — подумал он, — ничуть не странно, что мне вспомнилась эта статуя из красного камня. Сколько раз я останавливался перед этим памятником во время прогулок. Кое-как одетый, с бубенчиком в правой руке, стоял он с возмущенным видом, на лице его читались отвращение и тоска, уголки губ были низко опущены. За его бедро ухватился обнаженный перепуганный ребенок. Похожих детей можно увидеть на картинах и амулетах Мане-Каца рядом с бородатыми мужчинами, — подумал Филипп, — и никто не может объяснить, что автор хотел этим сказать. Никто не знает имени скульптора, изваявшего этого отчаявшегося шута с нагим ребенком, известно только, что памятник в Эттлингене, как сказано на табличке с тыльной стороны, призван служить напоминанием о бренности и быстротечности всего земного. Если вникнуть в смысл слов, становится понятно, почему у шута такой горестный вид и отчего в таком отчаянии цепляющийся за него ребенок. Им обоим известна истина, и они ее ни от кого не скрывают. Нелегкое это дело — говорить правду в глаза, ему самому, например, она была известна, но он никогда о ней не говорил. Кому истина неизвестна, тот просто жалкий дурачина, а тот, кто ее знает да помалкивает, — тот совершает преступление, — подумал он. — Я поплачусь за это, и удел меня ждет жалкий, потому что я преступник. Кто это напророчил? Ах да! — вспомнил он, — это старуха из Женевы, с коляской, полной всякой рухляди. Она еще плюнула в мою сторону… Будь ты проклят и умри проклятым…»
Читать дальше