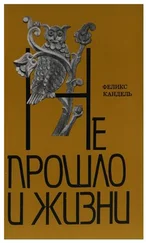— Да, — соглашается Финкель, — не простой случай.
— Вы понимаете! — ликует. — Вы меня понимаете!.. Я ему говорю: «Цимхони по-нашему — Вегетарианцев, еще больше букв в слове». Внук отвечает: «Я не живу по-вашему».
Спрашивает:
— Не поменять ли и мне фамилию? Заодно с ним? Бывший Финтиктиков, ныне майор Цимхони… Но я люблю мясо. Особенно курицу. Что посоветуете?
Бурно хохочет. Слеза пробивается от смеха в выпученном глазу.
— Видали? Нет, вы видали? Чуть что, глаза мокреют. «Финтиктиков, — говорили в полку, — не быть тебе генералом. Слезлив не по чину». А я отвечал: не по чину обрезан.
Клетчатые, в синеву, панталоны коверного в цирке, широкие и короткие, клетчатая шапка с козырьком и оранжевым помпоном: выйти на манеж, заверещать пронзительно до дальней галерки: «Здравствуй, Бим!», шлепнуться носом в опилки, чтобы заалел на потеху зрителей.
— Вас не удивляет мой наряд? — продолжает бравый отставник. — Отдыхаю после мундира, погон с портупеей, казенных гаткес под брюками, которых стыдился в дамском обществе. Отдыхаю сознательно и бесповоротно: чего стесняться? Недаром говорил мой шофер: однова живем.
Излишки живота сползают с туловища, обвиснув над брючным поясом, в глубинах голубой, в разводах, рубашки. Зубы белые, крепкие, не иначе вставные. Бритая наголо голова, спереди чубчик.
Старушка интересуется:
— Ты у кого стрижешься?
Изумляется:
— Вы заметили? Нет, вы заметили? Это же «бритый бокс». Единственный «бритый бокс» на всю страну! Мастер старенький, руки трясутся: бреет по волосу, потом против волоса, денег с меня не берет. «Ради прежних утех, — жмурится. — Сладостных ради переживаний. Еще бы „Шипром“ освежить, да где ж его взять? В войну тоже не было „Шипра“. Весь выпили».
Снова хохочет.
— Идн, назначаю вам свидание. В этом кафе. Бли недер. Не зарекаясь. Посидеть, вспомнить былое. Мастер советует, у него опыт: «С клиентом полагается беседовать, больше заплатит. С дураком говори по-дурацки. С умником продержись пару минут».
— Пару минут, — повторяет Финкель, давая понять, что разговор закончен. — Больше и нам не осилить.
Но Финтиктиков не уходит:
— Что я хочу сказать… А биселе, самую малость, пока мороженое не растаяло. Воевать не довелось, но вся служба прошла при оружии, и у меня есть соображения. Судьбу человеческую — ее полноту — надо оценивать по тем возможностям, которые у каждого были. Чтобы погибнуть. Вы со мной согласны?
— Проясните, — просит Финкель; это уже любопытно, до этого следовало додуматься самому, уложив в очередной сюжет.
— Мы с вами погодки, и большая война малолеток не зацепила. Но возможности были, еще какие! В сороковом году наша семья переехала с Украины в столицу, не то пропали бы за милую душу. В сорок первом собирались летом под Житомир, но отца не отпустили с работы, — в какой яме лежали бы наши кости? Не падала на нас бомба при немецких налетах: хоронились в подвалах, в туннеле метро, — на кого-то она падала. Не разбомбили с самолета эшелон, когда уезжали из Москвы…
— И наш, — соглашается Финкель. — Не разбомбили.
— А в нас, — сообщает горбунья, — попали сразу. В лесном овраге. Из пулемета. Но мы выжили. Не все, конечно. Одна я…
…ее прятала польская семья. На хуторе возле Слонима: отец, мать, дочь Ванда. Девочка была крохотная от долгого недоедания, много места не занимала; утаивали ее в кадушке из-под квашеной капусты, в кислом задыхе, накрыв поверху деревянной крышкой. «Вот, — радовалась Ванда, — ночь прошла, немцы не явились…» — «Я не волнуюсь по одной лишь причине, — вздыхала пани Мазовецкая. — Мы прячем ее не ради заработка, и Всевышний нам поможет…» А пан Мазовецкий добавлял: «Денег впрок не засолишь. Поверь, деточка, старому человеку: всё проходит, плохое и хорошее…»
Сон настиг нежданно: папа-мама, дедушка с бабушкой, крохотный Велвик-ползунок уселись на пол возле кадушки, справляя траур по самим себе. Дедушка надорвал ворот рубахи, сказал: «У нас пули в груди, но мы еще не умерли. Побудем немного у тебя. Если хочется жить, и очень хочется, дается отсрочка». А остальные молчали. Пили молоко с толстыми ломтями ржаного хлеба, наедались напоследок — не снести их взглядов. Спрашивала, приподняв крышку: «Вы на меня обижены?» Не отвечали. «Возьмите с собой». Опускали глаза. Ушли — оставили Велвика, который не умел ходить: «Он еще не знает, что такое смерть, и поживет у тебя подольше».
Слезы жгли ранки на теле, не давали им заживать; команды у оврага подавляли, не унимаясь: «Шнеллер! Шнеллер!..» Велвик долго еще объявлялся во снах, не подрастая, папа-мама, дедушка с бабушкой усаживались возле кадушки из-под квашеной капусты. «Упокойтесь уже. В ваших укрытиях». — «Нет для нас укрытия…»
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)