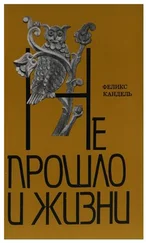Мир приходит в неистовство, подверженный порче, несметные полчища обкладывают город, дом, душу; свиток тягот еще не заполнен, и для самых забывчивых — скамья на подходе к концертному залу, табличка на ней: «Памяти родителей…», где затаилось пугающее слово «Освенцим». А вечер выдастся прохладный, ветерок ласковый-ласковый, детской ладошкой по щеке, неприятности отдалятся за горизонт, будто их не было, слушатели пошагают неспешно с концерта, после Моцарта-Дебюсси-Равеля… — Освенцим подстерегает на той скамье, которую не миновать.
Сказал бы Финкель: «Век начался и себя уже не оправдал. Надежда на век следующий, до которого не дожить…» Сказала бы Ривка-страдалица: «Поторапливаем будущее, убегая от настоящего. А там заготовлено про запас…» Добавила бы бабушка Хая, которой давно нет на свете: «Можно бы жить, и неплохо, да кто ж кому даст? Умудри их, Господи…» — «Ладно вам, — забеспокоился бы папа Додик: неведение — его ограда. — Может, обойдется…» — «Что ладно тебе? Что ладно? — возмутилась бы мама Кира: не снести ее ропота. — Неладно вокруг. Всё неладно…»
Мама Кира решительна и непримирима, ей требуется ясность — не изощренные толкования: семь раз отрежь, один раз отмерь. Папа Додик — ублаженный миролюбец в поисках необременительного бытия: семь раз отмерь, а отрежется само собой. «Вот бы… — мечтает папа-гуманист. — Вот бы эти правые изгнали отсюда этих арабов, и некому будет взрываться. А мы бы заклеймили правых за их бесчеловечность».
Из мест прежнего их обитания прилетела столичная штучка мужского пола, словно на захудалую окраину метрополии, произнесла с экрана, ногу закинув на ногу под обвислым животом: «Это была ошибка — провозглашение вашего государства. Его не должно быть». — «Я его изувечу, — пообещала мама Кира внятно, замедленно, суживая по-кошачьи зеленеющие глаза, наливаясь холодной яростью, от которой папа Додик забивается под одеяло. — Убью, расчленю на части, скормлю шакалам».
Подступит время для ночных размышлений, огорчится безмерно ликующий старик, жалостлив и отходчив: «Без доброты мы озвереем, да-да-да!» Взовьется старик опечаленный, буен и непокорен: «А с добренькими погибнем, вот-вот-вот!» По телевизору покажут чукчу, который повинится перед моржом, прежде чем его убить, — таков порядок у чукчей: «Прости нас за злодейство, но подступает зима, суровые холода, пропадем без твоего мяса. Мы и наши собаки».
А люди изничтожают себе подобных, прощения не просят.
8
Снова Финкель. На лестничной площадке:
— Бабушка моя рассказывала: покойникам вкладывали в руки по палочке. Прокопать путь до Иерусалима и там воскреснуть после прихода Мессии. А нам и того не надо. Мы уже тут.
— Хочу тоже палочку, — вздыхает Ривка. — Прокопать в Галилею. К Амнону.
Филиппинка вступает в разговор, чирикая о своем. У Ото-то неосознанный к ней интерес, и она это ощущает, пухлогубая, большеглазая, с приплюснутым носом и смоляной прической, не лишенная восточного обаяния; она всё ощущает, не подавая вида в замедленных устремлениях. А рассказывает она о том, как в голодную, бедовую пору жители ее деревни решили выкопать обитателей кладбища, унести с собой в сытные края, но те не дались в руки, ушли глубоко в землю, и живые остались с мертвыми на прежнем месте.
— Теперь? — спрашивают. — Что там теперь?
— Нет больше деревни. Город всё затоптал. Дома по двадцать этажей вместо кладбища, тяжесть непомерная на усопших.
Встают в дверях близнецы-сорванцы, босиком и в пижамах:
— Мам… Нам спать скучно.
— Марш в постель!
— А сказку… Где сказка?
— Я, — просит Финкель. — Можно я?
— Ты умеешь?
— Они еще сомневаются! Лучше меня никто не расскажет.
Взбираются к нему на колени, и Финкель начинает:
— Жил на свете старичок — каждому по нраву, который пускал пузыри. Когда умывался, стоял под душем, полоскал рот или просто так, ради потехи: буль-буль-буль. Потому и называли его дед Пузырь…
Прерывают:
— Пузырь — это что?
Ая приходит на помощь, переводя на понятный язык:
— Пузырь — это буа.
Финкель продолжает:
— Жил на свете дед Буа, который… Нет, так я не согласен! Про Пузыря могу рассказать, про Буа не получится. Француз какой-то…
Близнецы сползают с его колен, говорят сурово:
— Не умеешь.
И Хана их уводит.
Распахивается дверь в квартиру, где совершается нечто таинственное, недоступное посторонним. Выходит Дрор, их сосед, выпрыгивает женщина — глаза отпахнуты, целует его при всех.
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)