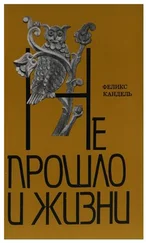Ночью она проявится на потолке, ушедшая до срока, взглянет строго: «У меня тоже есть игра, не хуже вашей. Перебирала в памяти лица, всё хотела понять, каким ты стал. Высмотрела и не удивилась…»
4
Возглашал незабвенный друг, чудила и неугомон:
— Мы не мыслители, Финкель. Не Руссо-Монтени. В чувствовании наша сила. Так чувствуй, черт побери!
— Рад бы, да как?
— Подстегивай воображение. Поощряй живость натуры. Семя вырабатывай в избытке: пусть будет. Эти, которые вокруг, не застегивают у рубашки верхнюю пуговку. В лучшем случае. Ты не застегивай две.
— Зачем, Гоша?
— Нараспашку — наша свобода. Вызов месту и времени.
— Свобода не в этом, Гоша.
— В этом. Пока нет иной.
Они неплохо учились, Финкель со своим другом, и их принимали в пионеры одними из первых. В коридоре школы. Возле беленой стены, затертой спинами. В присутствии пионервожатой без пола и возраста от тусклых обязанностей в пыльных помещениях.
В стенной газете написали по такому случаю. Должно быть, пионервожатая. Должно быть, стихами:
Страна моя, мечта моя,
Родной цветущий край!
В лесах твоих,
В полях твоих
Огни коммунизма горят.
Прошли месяцы с того события, и прочих школьников, еще не принятых в пионеры, усадили в автобус, отвезли к памятнику погибшим солдатам, где они дали клятву в окружении ветеранов, смахивавших скупую слезу. Еще миновало время, наскребли остатки, балбесов с второгодниками, повезли на Красную площадь, ибо подступали праздники и полагалось выделить учеников от каждой школы, принять в пионеры возле Кремлевской стены. Под барабанный бой, пение медных труб, бой часов на Спасской башне; с цветами, подарками, портретом в газете обалдуя Сереги, который надувал презервативы на уроках и пускал их по классу: «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю…»
Штопаные годы. Скукоженные мысли. Перелицованные наизнанку понятия. Сытости вокруг не было: не от горбушки хлеба или тарелки супа — насыщений пытливого духа, просветляющих горизонты.
— Не относись с небрежением к прошлому, друг Финкель. Досталось то, что досталось, у других и того нет.
Раздвинулись границы дозволенного, послабление мертвой хватки на горле, неспешный рост неприметного благосостояния, когда возрастал мусор на улицах взамен скудного безоберточного существования, мусор громоздился в головах после занудного директивного мышления. Поэты в спешке столбили темы, золотоносные участки, прозаики, естественно, отставали, настраиваясь на долгую дистанцию, которая оказалась короткой, и кто-то уже бился боками о новые предохранительные решетки.
Незабвенный друг вспомнил про Серегу на Красной площади, вставил пионеров в сценарий, но редакторы отшатнулись от эпизода, как от гремучей змеи:
— Старик, ты же не дурак, старик. Кому он нужен, твой Серега?
Сказал раздумчиво, в тихой горести, глаз с прищуром от сигаретного дымка:
— Подступает иное полоумие. Если не знаешь, кто возле тебя идиот, значит, идиот — это ты…
Пятнами покрылся от аллергии.
Стать бы ему гончаром с натруженными ладонями, умело оглаживая податливую глину. Кузнецом в фартуке, прожженном до дыр, под грохот молота по железу: лицо опалено калеными искрами. Столярничать бы ему: руки на рубанке, ворох кучерявых стружек, душный запах лака-скипидара. Ювелирных дел мастером — тончить серебро в невесомый лист, постукивать молоточком по чекану, выписывая узоры на ковше, складне, табакерке, на окладах книг и икон: глаз зорок, удар выверен, клеймо мастера на века. Ваятелем стать бы ему: вздутые жилы на руках, вздутые сосуды на висках, одолевшие каменную неподступность, — по ремеслу и мука.
Морщина на лбу поперечным надрезом.
Полоска на носу от дужки очков.
Натруженные глаза в кровавых прожилках.
— Мы не писатели. Мы — Божьи дурачки. Разобраться бы в том, к чему приставлен, — большего не надо.
За работу усаживался плотно, усидчиво, отключив телефон, в завале книг и бумаг, где проглядывал одному ему известный порядок. Карандаши затачивал до малых огрызков, ими и пользовался, откидывая затупленные. Жизнь провел со словом, отбирая из словаря-отстойника, гнулся от непомерного труда, оглаживая ладонями, обжигаясь и обжигая, чеканом подчищая заусенец до легкого дыхания строки, пластинчатой ее упругости. Рассказы писал строго, истово, продираясь через врата букв, уважал выдуманных героев, жалуя и наказывая по заслугам, чаще жалуя, точнее, жалея. К вечеру с воплем выскакивал из кабинета: «Машка, пошли по бабам!..» Это означало: день был добычлив, не в пример прочим.
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)