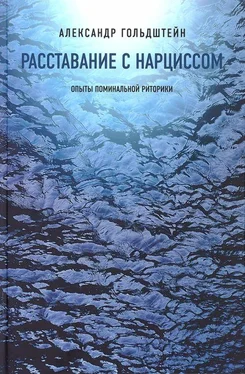И «эстетизации нацизма», намерения породнить его с трагической сексуальностью, как это было у Лилианы Кавани («Ночной портье»), мы здесь не сыщем. Эффектная попытка Кавани рассказать любовную историю посреди нацистско-лагерного ритуализма, увиденного как декадентское шоу, в котором любая деталь связана с насилием и томлением о насилии, а потому неизбывно дорога и нежна, — эта попытка, несмотря на ее блеск, кажется эстетически пошловатой. Слишком много тут нарочитого психологического изощрения и специального постановочного демонизма, так что спектакль истекает клюквенным соком серьезности — на грани с пародией. Те же эмоции неизбежны при чтении «нацистских» пассажей Жене, любившего дрожь и оргазм по поводу эзотерики эс-эс-ордена, — провинциальный декаданс, ошеломленный величием традиционной нравственной систематики, подавленный собственной смелостью ниспроверженья кумиров.
У Мэплторпа все куда проще — он ничего не отвергает, никого не провоцирует. Только «коллаж» из звезды, автомата и колючего взгляда, молящего о любви и защите. Так мог бы смотреть Рембо «в свете нашего опыта», но об этом «проклятом» созвучии Мэплторпа я говорить не намерен по причине его очевидности и вопиющей несправедливости: когда близкий к смерти артист процитировал «Один сезон в аду» в начальных кадрах автобиографической ленты, он показал, кем он хотел себя чувствовать и кем, конечно же, не был, — Рембо умирал необласканным и рисковал по-другому, не в такой броской стилистике.
В заключение скажем, что либералом Мэплторп тоже не был. Как тонко заметила уже упомянутая Камилла Палья, имея в виду фотографии, ужаснувшие несчастного Паркера Ягоду, — садо-мазохизм не либерален. Это холодный, жестокий культ, скрепленный тоталитарным иерархическим принципом. Его обряды противопоставлены ослабевшим общественным уложениям, они довлеют себе, как страсть, смерть, боль, и не содержат иного, им внеположного, смысла. Взяв на себя труд перелистать сочинения авторов, подаривших свои имена этому потаенному культу, — де Сада и Захер-Мазоха, мы убедимся, что действие в них происходит в огражденных чертогах преступного сладострастия, а идейная поэтика текстов предопределена жесточайше расписанными и неукоснительно исполняемыми ритуалами, отчужденный холод которых способен спалить все вокруг.
Мэплторп недолго пробыл в этих ледяных пределах. Расставив по местам своих черных и белых приятелей, он отснял все, что нужно, и умер 42 лет. А цветочки его выжили, мороз их не побил, цветут себе по всему миру, на дорогих и престижных выставках.
Самого же артиста Господь забрал в свой вертоград — самую горнюю галерею.
Здесь кончается трилистник бесплотного тела и непрактичного жеста.
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОЦИАЛИЗМА
Скромное обаяние социализма
В литературе советских тридцатых существовал недооцененный сегмент, значение которого кажется первостепенным. Лишенный строгих структурных очертаний, он представлял собой скорее нечеткое множество, аморфную общность текстов, быть может в наибольшей степени заслуживавшую наименования социалистического реализма (в описательном, а не оценочном смысле, как вынуждены оговариваться многие, кто прибегает, за неимением лучшего, к этому псевдотерминологическому образованию). Речь идет об определенном круге сочинений с выраженным в них достаточно нетривиальным стремлением войти в непосредственный контакт не столько с целостной (тотальной) государственностью, сколько с общественностью, с большими пластами неополитизированного бытия — народного и частножитейского.
Гигантски возросшая массовидность жизни [45]с ее обобществлением собственности, коммунальными квартирами, коммунистической партией, комсомольскими ячейками, пионерскими лагерями, общежитиями и трудовыми коммунами, ОСОАВИАХИМом, МОПРом и «творческими союзами», концентрационными лагерями и бригадным методом работы в лагерях — оказала несомненное влияние на литературу, но вошла в нее в преображенном, очищенном виде. Не следует верить на слово декларациям, твердившим о революционном порыве, гностической ненависти к материально-тварному миру и классовых страстях; тема сокрушения старого мира и строительства нового была далеко не единственной и, возможно даже, не определяющей. Литература 30-х годов (та ее линия, о которой преимущественно будет здесь говориться), и это неизмеримо важнее, смогла сделать зримой особую этику коммунальных роевых отношений, роевой семейственности, этику низового пролетарского демократизма, охлократических (не в уничижительном значении слова) свычаев и обычаев, густое варево новой социальности, закипавшее во всех горшках и кастрюлях советских киновиальных кухонь. Это варево было не вовсе, а порой и вовсе не охвачено холодной, овнешняющей идеологией, его можно назвать смесительным лоном советской коммунальности, в котором творилось очередное смесительное упрощение, уже неизвестно какое по счету.
Читать дальше