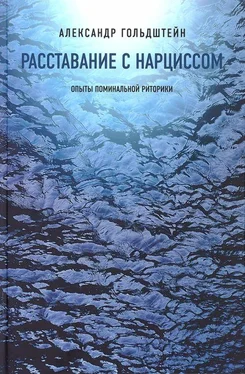Программный жизнестроительный жест — в тех формах, что за ним исстари закрепились (а где взять другие, кто их подскажет нам?), — ныне бесповоротно исчерпан. Или, скажем чуть более осторожно, требует полного обновления, такого, чтобы мы его не узнали. Сэлинджер был последним, кому удалось что-то сделать на отмеренных тропах, — он по ним убежал в неписание, в многозначительную тишину (пресловутый хлопок одной ладони). Он ушел, как уходит китайский художник из сказки вослед своему желтому аисту, скрываясь от жестокого заказчика-повелителя, — по тропинке, начертанной на стене тончайшей кисточкой из верблюжьей шерсти и тем самым проходящей сквозь стену. Сэлинджер поступил, как поступает уже современный художник, который не столько создает арт-объекты, сколько представляет идею, очищенную от всего наносного, что может помешать ее созерцанию (гуссерлианское вытеснение личного мусора за скобки сугубого смысла). Но подобно тому как идея в современном искусстве умирает, едва только будучи произнесенной (полюбив, мы умираем), так и сэлинджеровская программная тема ухода в молчание уже не звучит, ибо это молчание — высказано. Высказал же Ив Кляйн замысел пустоты, явив зрелище нагого экспозиционального зала, — и сразу же эту идею, доведя ее до всеобщего сведения, убил. Только Христо, ничтоже сумняшеся, дублирует все ту же концепцию, но это очевидное исключение, когда повторение предусмотрено замыслом, — ведь нам интересно, что он еще обернет, какой мост и рейхстаг зачехлит. Сама же идея его не нова: «Заверните в бумажку!» — кричал оголодавший Остап Бендер, завидев в пустыне, после долгих скитаний с Корейко, случайно залетевший туда самолет.
Израсходованность концептуального жеста, сопряженного, в частности, с темой ухода, повышает значение его антонима — жеста непрограммного, непредумышленного, спонтанного: артист никого и ни в чем не пытается убедить, а просто повинуется собственной прихоти, капризу, свойству натуры, нимало не заботясь о том, как отзовется его слово. Артист выходит из территорий искусства, чтобы вернуться к собственной личности и ее уберечь от людей. Он похож на ребенка, что посреди удовольствий внезапно бросает игрушку, — он устал, ему все надоело, ему хочется спать. Это инфантильная выходка, инфантильный уход, он не связан ни с выгодой, ни с желанием еще раз утвердить себя в мире, его отрицая. Не исключено, что именно такой непрограммный жест обретает сегодня особую прелесть (философия выходки, заметим, до сих пор никем связно не сформулирована). Его смысл может быть понят только изнутри покидающей нас артистической личности. Этот смысл не обращен вовне, он не предполагает никакой внешней реакции и резонанса, он свидетельствует о невозможности для художника более находиться в человеческом обществе.
В XX веке есть два примера такого рода исчезновения, иррациональный характер которого выдает его глубокую персональную подлинность и неизбежность. Так ушли из публичного мира в невидимый, личный — Грета Гарбо и Бобби Фишер.
Не учли они самой малости: исчезновенье удвоит их баснословную славу и поставит в еще куда более унизительную зависимость от всепроникающих щупалец внешних влияний, нежели когда-либо прежде. Все их дальнейшее существование обратится в каждодневное оберегание своей анонимности, в наглядную и гипертрофированную демонстрацию «страха касания» (Канетти), в полуподпольную многолетнюю пытку на манер Салмана Рушди, и, даже если мир, что случалось не часто, о них забывал, бдительности они не теряли.
Покинув людей, они стали пленниками идеи ухода, они превратились в заложников собственного исчезновения, навсегда связав себя с коллективным сознанием. Многие ль помнят сейчас фильмы, в которых снималась Гарбо, и так ли уж много они нам способны сказать? Кто, кроме специалистов и маньяков-любителей, готов пронести в уме сквозь десятилетия, что в седьмой партии аргентинского матча с Петросяном Фишер гениально сыграл на тринадцатом (кажется!) ходу ладьей на «е-один» и, неожиданно ферзей разменяв, методично, с легким привкусом волшебного геометрического безумия, удушил железного Тиграна в его же манере, но только доведенной до совершенства чистого образа? Таких жертв от общественности никто не потребует, и она склонна помнить другое — как они ушли не прощаясь, без приличествующего самоубийцам письма; она готова бесконечно припоминать им уход, медленно остывая к свершениям.
Внимательный взгляд, разумеется, разглядел бы, что с этой публичностью оба они, два великих актера на торжище честолюбия, соотносились куда как сомнительно. Немецкий прозаик Дитер Веллерсхоф долго не мог совладать с одним из параноидальных своих персонажей: суть характера пребывала аморфной, слово выказывало неповиновение. Ключ к замыслу, по словам Веллерсхофа, он обнаружил случайно, увидев фотографию Фишера — худое лицо, тинейджеровская прядь волос, полураскрытые губы, воспаленный взгляд, выражение интеллектуальной концентрации и одновременно — подросткового страха перед миром. То было лицо человека, явно не расположенного в этом мире надолго задерживаться, и удивленья достойно, чего он добился, прежде чем окончательно решился на неизбежное.
Читать дальше