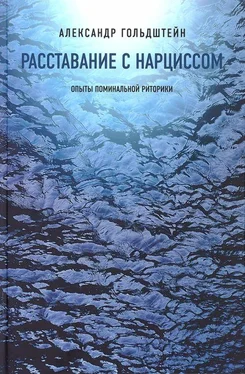Барри Пэрис, из-под бойкого компьютерного пера которого вылилось обстоятельное жизнеописание Греты Гарбо, основывает свою документальную разработку на многочасовых записях телефонных разговоров, каковые сохранил артдилер Сэм Грин — чуть ли не единственный, на протяжении многих лет, конфидент Гарбо, а точней — собеседник и партнер по ее ежедневным прогулкам в любую погоду. Набранные типографским способом, разговоры эти навевают ощущение испуга и недоумения. Перед читателями разверзается — нет, не бездна, а пустота. Минусовое зияние. Нулевая степень письма и монотонного проговаривания. Этот абсурд кажется подстроенным, так изъясняются разве что персонажи пьес Беккета и еще — Грета Гарбо. Длинные, очень убористые куски текста, на все лады трактующие тему предстоящей покупки обуви (это, заметим, никак не обычный женский треп, это нечто принципиально иное), рассуждения о погоде, о возможном визите к зубному врачу, что-то еще в том же роде и ни слова, ни слова ни вздоха о чем-то таком, что хотя бы отчасти, я не требую большего, — могло оправдать ваше желание продраться сквозь эти однообразные заросли псевдожизни, преодолеть эти плоские, как нулевая отметка, реки вербализованного несуществования. Это шум сознания, или, лучше сказать, телефонная книга, в которой нет ни смысла, ни лада, ни ада.
Между тем это настоящая Гарбо, Великое Ничто, которое каждый волен заполнять сообразно личным прихотям и капризам воображения. Избавившись от опостылевшего кинематографа, она возвратилась к себе, к своей подлинной сущности. Так зеркало, годами уловлявшее нимало не дорогие ему оболочки, с облегчением застыло напротив другой зеркальной поверхности, взаимно умножая отраженье. Как свидетельствует все тот же без лести преданный ей Сэм Грин, ей никогда с собой не было скучно.
Это, скажем еще раз, Великое Ничто. Или Протей, всю жизнь повторявший чужие обличья и наконец решивший обратиться к собственной сути, о которой ему все известно заранее и с которой он соприроден, как никто другой — со своей. Гарбо ускользала от определений, она казалась вылепленной «из снега и одиночества» — именно потому, что она реально никем не была. Ее феноменальное эротическое обаяние было безличным обаянием некоей коллективной юнгианской женской психеи. Фактически она пребывала вне сферы эротики, вне сферы чувственности и сексуальности, — может быть, там, где, по расхожему ныне слову Розанова, трава не растет, солнышко не греет, а светит лишь ровный негреющий лунный свет и все дышит густым бесполым мистицизмом.
Сексуальная ориентация Гарбо осталась загадочной — для тех, кто заинтересован в сведениях об этом предмете. Говорили о ее приверженности лесбийской любви. Все это не имеет никакого значения, ибо она была бесполой, свободно блуждала между мужским и женским, не испытывая любопытства ни к тому ни к другому, — в этом и заключался истинный смысл «снега и одиночества», смысл ее абсолютной непринадлежности, сквозившей в мистическом психологизме ее экранного «антисексуса». Она и в самом деле не знала, кто она есть, и порой говорила о себе в третьем лице. И в мужском роде.
Эротика, сексуальность — это область совсем других людей, совсем других женщин — Марики Рокк, Любови Орловой, яркая, очевидная половая принадлежность которых не вызывает и тени сомнения. Какой-нибудь «Светлый путь» дает наглядное представление об отчетливо сексуализированном, язычески плодородном характере тогдашней утопии (стиль — это не человек, стиль — это огромные толпы людей), о вдохновенном ее шевелении, мычании, сопении, о телесной, магической, дорефлексивной ее радости — вдруг становится видно далеко, во все стороны, и тебя отовсюду ласкают и лапают. Эпизод, когда героиня с героем гуляют по павильонам сельскохозяйственной выставки, впечатляет особенно и неповторимо. Они идут мимо скульптурно-макетного изобилия плодов и злаков, мимо переполненных потенцией быков-производителей, этих мясомясых волооких Аписов («знаменовательный» и знаменосный Египет с его «отборной собачиной»), которых все тот же Розанов мечтал поцеловать в одно место, о чем откровенно поведал на склоне дней своему эпистолярному партнеру Голлербаху, — ассирийско-социалистическое торжество земледелия, советско-египетская скотоводческая триумфальность, и она не стоит неподвижно, погруженная в изобильное оцепенение, но плавно движется в сторону ренессансного окоема, социального идеала. Было бы любопытно — в порядке занимательной компаративистики — сравнить эту сельхозвыставку с ярмаркой, что описана в «Мадам Бовари». И тут и там на приближающихся к совместной половой жизни героев взирает большеглазая скотина, повсюду разлит второй, символический свет, но если в одном случае все обстоит благополучно, то в другом события развиваются известно как, и продаваемая живность мычит, заглушая новаторски оркестрованные голоса.
Читать дальше