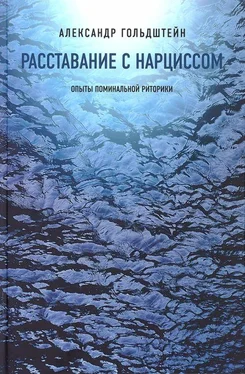«Сама глубочайшая сущность Традиции ведет нас к тому, что трансцендентность Бога является в основе своей иллюзорной. На самом деле нет ничего более близкого человеку, чем Бог, ибо в своем высшем проявлении человек перестает быть человеком и становится тем, кем он есть в действительности, т. е. Богом». Это мы уже знаем. А дальше следуют смелые логические выводы. Приход к Богу и «приобретение» своего истинного «Я», пишет Мамлеев, означает конец всех религий. Но предполагает ли это конец всякой идеи трансценденции? Ведь эта идея — базисный принцип человеческого бытия. И что означает «выйти за пределы Бога, за пределы Абсолюта»? Бог есть абсолютная реальность, и выход по ту сторону Абсолюта знаменовал бы выход из Реальности как таковой. Нужно признать, однако, что истинно-трансцендентное, вечно-трансцендентное, пишет Мамлеев, должно быть по ту сторону Бога, а следовательно, за пределами Реальности и всего того, на чем покоится Реальность. «Последняя доктрина», таким образом, есть «учение» о том, чего нет, что лежит за пределами Бога, Абсолюта, о том, что трансцендентно по отношению к Реальности и к высшему Я. «Это „учение“ о том, что Бог является всего лишь „телом“ трансцендентного (говоря методом аналогии), а не сущностью Трансцендентного; последнее является как бы истинной Тьмой, истинным Океаном, который „окружает“ Реальность…» На этом изложение можно прервать, этого нам довольно, тем более что то, о чем трактует «Последняя доктрина», — непостижимо.
Мамлеевская мракопомешательская, подлинно темная Россия на первый взгляд позволяет истолковать себя как метафизико-географическую и волшебно-земную «параллель» к Трансценденции, которая лежит по ту сторону всего. Россия одна заключает в себе несказанное. Только на ее просторах не выполняется закон тождества. Россия — это бездна. Она есть то, чего нет, а следовательно, вбирает в себя все. Лишь она окучивает и растит монстров, существ с повышенной концентрацией человеческого. По всей России разбросаны «святые места» Федора Соннова, где он на месте убийства воздвигал как бы невидимые храмы, молясь там за самого себя. Мир и Россия не связаны между собой, ибо мир ограничен, а Россия безмерна. В ней сходятся и нейтрализуют друг друга все противоречия («ты будешь там, где тебя нет»). Но так рассуждая, мы отдаемся во власть ложному чувству, от которого настало время избавиться. Россия кажется бесконечной, неуязвимой и совершенной, а тайный зверь или птица рвет ее печень. Вернее, она родилась с этой раной. И в какой-то момент властью свидригайловского пророчества она вся умещается в закутке деревенской баньки с пауками, и безмерность ее высыхает, как, по слухам, Аральское море. Россия тесней арестантской камеры, уже ножа, такова ее нарциссическая трансценденция, в которой не оставлено места Орфею. Он в этом мраке немыслим, и его отсутствие создает страшную узость и замкнутость мамлеевского русского мифа.
Противопоставление Нарцисса Орфею фундаментально, с его помощью можно прикоснуться к несходству миров. Аутистические территории, в том числе или прежде всего территории русские, символизируются фигурой Нарцисса, признающего единственную форму коммуникации, — любовную беседу с самим собой. Эти земли являются душной монадой без дверей и окон, населенной различными монстрами, которые, истощив себя неудачными поисками «другого», обратились к самоедству и нашли в том усладу. Узники неосуществленной Богореализации, они находятся в не менее жестоком плену у национального антикоммуникативного мифа: русское пространство не создано для общения. Общение возможно в разомкнутом мире, который не прикидывается Трансценденцией в духе «Последней доктрины», чтобы затем съежиться до размеров курного сектантского корабля. Выродок-солипсист — не только знак универсальной метафизической ситуации, но и эмблема огражденного национального бытия, не умеющего разбить своей скорлупы. Нарциссический мир прочитывается у Мамлеева как русский космос, отрезанный от надежды и от всей полноты сообщений, он заключен в глубине своей безвыходной самости. Но органическая жизнь не нуждается ни в надежде, ни в коммуникации, их заменяет мистическое присутствие вечно длящегося безмолвного Настоящего. Это и есть национальная вечность Нарциссов, где замерли разговоры людей и слышатся только одинокие крики «сверхчеловеков» — уродов.
Коммуникация происходит под знаком Орфея. Где Орфей, там отворяются уста, выходят из заточения пространства, а искусство становится способом преодоления смерти. Орфический вариант биографии и жизнеустройства есть экзистенция европейской разомкнутости, тут коренное расхожденье путей, которое видно и на примере литературы последних десятилетий. Если западное посленовое слово воскресило международное скитальчество смыслов, безудержность лжи, мореходную перебранку Одиссея с Синдбадом, песни сирен, обольщения Калипсо, плач Дидоны, «Панчатантру» и Чосера, монастырский детектив, историю мира в десяти с половиной главах и парфюмера-Орфея, растерзанного парижскими подзаборными менадами в минуту его высшего торжества, если оно вновь явило свободу от местного времени и местных идеологий, то русское слово, еще плотней запахнувшись в родные пределы, выдало Отечеству на гора солипсически о себе возомнившую подмосковную помойку и несчастное детство с ухмыляющейся проекцией на постылый Русский Роман. Литературные концептуалисты были подлинно национальными русскими авторами дошедшей до края эпохи. Визуальный русский концепт сумел утвердить за собой статус международной манеры, сговорчивым диалектом внедриться во всемирную речь, но его условный литературный аналог все играл в гляделки со Сфинксом национальной души, завороженный этим таинственным немиганием. Сорокин, сам похожий на статую, дольше всех просидел на песке напротив щербатого изваяния и не выдержал, замолчал (сейчас снова пишет), побежденный пустыней, а Сфинкс-то устал сильнее своих оппонентов. «Опустите мне веки», — тщится он вымолвить растрескавшимися губами, но нет вокруг никого, даже ворюг — все гробницы разграблены.
Читать дальше