6 декабря 1949
45. Лебеди и фламинго, или В топазовой глубине сна
Есть особое занятие: наблюдать за любопытствующими, когда они в парке Масео {464} 464 Парк Масео — парк в кубинской столице, назван в честь сподвижника Хосе Марти, борца за независимость страны Антонио Масео (1845–1896).
следят за вопросительным скольжением лебедей и не задающим уже никаких вопросов квиетизмом {465} 465 Квиетизм — течение в католицизме, исповедующее отрешенный, мистико-созерцательный взгляд на мир; к нему принадлежал, среди других, Мигель де Молинос.
фламинго. Лебедь отсылает к вагнерианству, к нашему испаноязычному модернизму {466} 466 Модернизм — в данном случае речь идет об испаноязычном модернизме, движении 1880–1910-х гг. за обновление латиноамериканской, а затем испанской и португальской литературы, прежде всего — поэзии. Лидером модернизма выступил выдающийся никарагуанский поэт Рубен Дарио.
, туманам, безвкусице в целом и безвкусице уточненного вкуса — в частности. От льва Гюго до лебедя Дарио геральдику поэзии осеняет память о линнеевой классификации, — а как иначе расставить по местам весь список поэтов и школ? Дарио преследует лебедь — его хрупкость, непоколебимое спокойствие. Иероглифы его выгнутой шеи и гигиенических забот, изнеможение веера из лебединых перьев, уставшего от рутины нежить все те же лица, мещанские суеверия с их белыми и черными лебедями буквально обступают поэта. Лебедь неразлучен с нашим модернизмом, как схватка лебедя и совы — с реакцией на модернизм. Но и никарагуанский лебедь Дарио, и мексиканская сова Гонсалеса Мартинеса {467} 467 Энрике Гонсалес Мартинес (1871–1952) — мексиканский поэт.
застыли в неподвижности — пленники судьбы, приверженцы вечного возвращения. Задумчивый ориентализм Гонсалеса Мартинеса роняет, — «Возьмут из груды праха заброшенную лиру / И звуком наших песен заговорит струна», — а лебединое рококо Дарио подхватывает, шепча: «И соловьи все те же роняют те же трели, / Ведя все ту же песню на разных языках».
А вот наш Касаль {468} 468 Хулиан дель Касаль (1863–1893) — кубинский поэт.
привязан не столько к лебедю, сколько к фламинго. Отсюда его тяга ко всему японскому и китайскому, его застывшее раздумье среди рисовых полей на лаковых ширмах, его поглощенный утехой розовеющих перьев буддизм: «Вернутся фламинго точеною стаей, / Из зарослей прежде немого бамбука / Пронзительной песней своей долетая». Модернизм принес в поэзию чародейство и легкость, тривиальность и излишества, а в жизнь — скольжение лебедей и розовую зарю затона, украшенного фламинго. В Испании он испустил дух перед Первой мировой войной, а у нас еще года до двадцать пятого соблазнял воздушными напевами, лунатическими Ватто, кисеей туманов и внезапными зеркалами озер.
Пришедшие нынешним воскресным вечером в гаванский парк поглазеть на лебедей и фламинго скорей всего даже не догадываются, что попали в музей уклада и костюма. Кремового оттенка фланелевые брюки, голубые накидки кокетливых тонов, первые студенческие волнения, нашествие «всеамериканских поэтов», потом новый приезд Дарио, демонстрирующего пророческие загулы в компании с одним из наших денежных мешков, дуэли на шпагах из-за милой Франции или стального Берлина… Сбившиеся у пруда зеваки смотрят перед собой и не видят останков погребенного, но, может быть, еще не умершего стиля. А у тех, кто все-таки видит, глаза слипаются от леденцового тумана, как будто всматриваешься в янтарь или топаз, именуемые в просторечии сном.
13 декабря 1949
47. Дерево в доме, или Таинство роста
«Мои друзья, — говаривал грек великой эпохи, — не деревья в лесу, а люди в городе» {469} 469 «Мои друзья, — говаривал грек великой эпохи, — не деревья в лесу…» — реплика Сократа в диалоге Платона «Федр», в переводе А. Егунова: «…местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе».
. И это верно, если вспомнить, что города у греков воздвигались, подчиняясь зрению, по мерке глаза, а не в борьбе с лесом. Символика встречающихся на греческих стелах виноградных лоз остается загадкой, ведь виноград, отметит любой эллинист, очистительными свойствами не обладает. Грек выхватывает из леса ветку миндаля, оливы или лавра, но, в общем, лес для него вроде моря — бесплодная равнина.
Иное дело — христианство: для него удел человека — sentire cum plantibus, чувствовать вместе с растениями. Бегство в Египет с его древесной купой над застигнутыми ночью путниками. Сон пастуха в тени дерева у воды, когда ночной поток переливается в сны, мешая звезды с плодами. Воин, отступающий к стволу, чтобы отчеканить заклятья и снова ринуться в гущу стрел. И, наконец, Дон Кихот, с чудесной проницательностью заключающий, что поколочен деревьями, «поскольку этот выродок Дон Рольдан измолотил его дубовыми палками».
Читать дальше
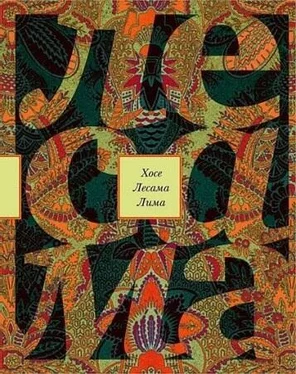

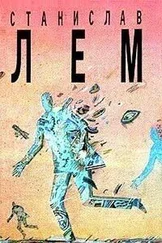


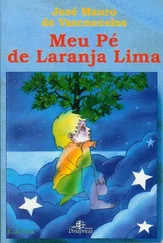


![Холли Блэк - Десятина [= Зачарованная] [litres]](/books/399985/holli-blek-desyatina-zacharovannaya-litres-thumb.webp)


