И вдруг мы чувствуем, что надписи на обеих досках, будто попав в магнитное поле, начинают поляризоваться, стягиваться, расходиться, сближаться и скручиваться в непримиримый клубок, где должен победить кто-то один. Спокойствие указки или дрожь руки в пустоте, противоположные цвета мела, угольная доска или окаменевший известняк, Аристотелев покой или Паскалево движение, бытие существования или существование бытия смешиваются в иронической светотени или неистовствуют в противостоянии как взбешенные ястребы. Но в этих областях синтез подобного или множественного не ведет к покою, когда основа исполняется силой саморазвития. Напротив, синтез здесь предполагает уничтожение без risorgimento [42] Возрождение (ит.).
: фрагменты, словно головоломки из кусочков мрамора, начинают искриться или двигаться сами по себе, не давая высвободиться форфоресцирующей рыбе, соединяющей безжизненность полипов с морской флорой — косами водорослей или мхами впадин. Поскольку синтез этот извращен грубой видимостью, мы вскоре понимаем, что, ведомые Амфиараем или Трофонием {253} 253 Амфиарай, Трофоний — прорицатели в греческой мифологии. Амфиарай в битве обратился в бегство, но был не убит, а по воле Зевса живым поглощен землей.
, ищем вход в пещеру пророческих изречений или в глубины Плутонова царства. И там, в этом извращенном синтезе, преследователь сливается с копьем, вонзившимся в спину беглеца, подобно снискавшему покровительство Зевса раненому Амфиараю, которого скрыла расступившаяся земля, схоронив его, невредимого и теперь уже бессмертного, вместе с колесницей и конем. Пока перед нами розные и стенающие противоположности, через горлышко кувшина доходящие до взгляда, парализованного этими бескрылыми и хаотическими фрагментами, они похожи на опочивших королей, прикованных к стылой каменной вечности своего физического роста. Но единственное разрешение, которого мы добиваемся, чтобы умерить гневливую мрачность обеих досок, дает поэзия. Лишь она способна осуществить немыслимый синтез — наделить возможностью смысла победивший поток, направив его в гроты, где покоящиеся тела не слышат речений, или в подземные усыпальницы орфиков, где никчемное тело, в отместку за отьединенность, не в силах вновь обрести прежний строй дыхания, свою пневму.
Нет, мы говорим вовсе не о понятийном синтезе противоположностей. Речь о несказанных, неповторимых различиях, о тех оттенках, которые, вероятно, замечает мастер в вогнутостях чаши, кажущейся нам безупречной, или мистик, по слуху отличающий давление вдоха и выдоха в структуре пространства, чувствуя, как оно в основных своих излучениях или во владеньях паукообразных преображается с почти телесной очевидностью. Мы имеем в виду сомнамбулический скачок ведь на пути от ирреального к реальности сон означает глубочайшее бдение, внимание к струйке воды, которая среди одинаковых на первый взгляд углублений берега находит собственный путь, скорее повинуясь при этом поляризации некоего магнитного поля, чем в силу никчемных в своей поэтичности, банальных и нелепых различий рельефа. «Человек, — говорил забытый современник Паскаля Сент-Анж {254} 254 Сент-Анж (Жак Фортон, сьёр де Сент-Анж) — французский священник-капуцин, доктор богословия, автор трактата «О правилах естественного суждения» (1637–1645). Выступил с рациональным опровержением догмата о троичности Бога, в 1647 г. с ним по этому поводу дискутировал Паскаль.
, — это бутыль с речной водой, плывущая по большой реке». Мгновенная однородность, достигнутая лишь затем, чтобы собрать в одно целое устремляющийся к смыслу поток, распадается раньше, чем обретет смысл или умалит его, сделав всего только видимым. Хотя смысл этот может показаться пожирающей поток заранее предначертанной целью, он всегда остается отсылкой к началу, которое разделилось, дабы воссоединиться в качестве символа абсолюта. Как если бы после долгой скачки верхом ты с наслаждением оглядывался на оставшиеся за спиной города или ощущал холодок их двусмысленных новостей, всякий раз словно имея в виду некую трагическую подмену, двойника, в котором отражается и сам путь, и смысл клятвы на развалинах Фив. Похожая на беспрестанное и различимое глазом пищеварение устрицы, поэтическая речь в ее ошеломляющей внутренней соотнесенности вмещает поэтическое высказывание и образ, инерцию и неожиданность — движение, при котором пыль, взвихренная каждым скакуном, совпадает с очертаниями облака, вбирающего их в качестве imago [43] Образ (лат.).
. Ход поэтической речи напоминает движение рыбы в потоке: любое из метафорических различий в тот самый миг, как оно достигает самотождественности, отбрасывается ради конечного устремления к образу. Поэзия вбирает слово за словом, обращая их в заклятую меловую черту; вмешиваясь, подобно Атропос {255} 255 Атропос — одна из Мойр, богинь судьбы в греческой мифологии: она перерезает нить человеческой жизни.
, в бег шелковой нити, она распутывает смысловые схлесты, разводит и распускает их, чтобы снова воспрянуть в конце пленницей смысла. На всем пространстве своих владений поэтическая речь горделиво вопрошает об искомом смысле, карая в этой перспективе каждый явившийся предмет, который поймала, чтобы опять разбить во имя того отсутствия, что намагничивает и направляет ее безостановочный поток. Чудо собранности в массу, во всякий миг достигающую предельной плотности, в то же время вновь и вновь устанавливает соотношение вихря и покоя, промелька и пребывания, как бы соединяя удар в бок или ощущение разлетевшихся искр — с чудесной кожей, растягивающей их длительность…
Читать дальше
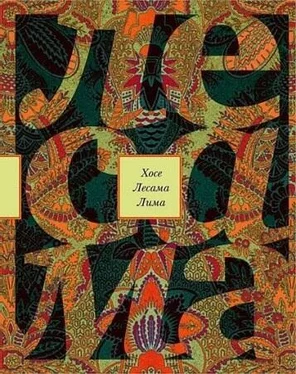
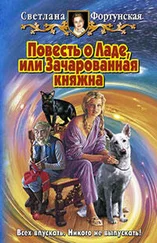
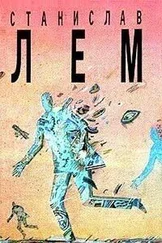
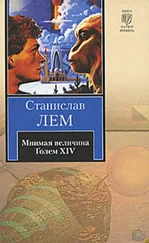
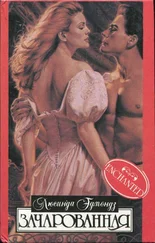
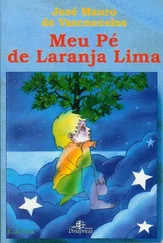


![Холли Блэк - Десятина [= Зачарованная] [litres]](/books/399985/holli-blek-desyatina-zacharovannaya-litres-thumb.webp)


