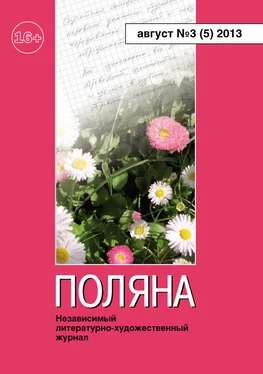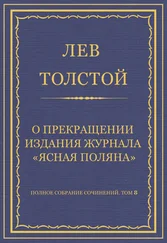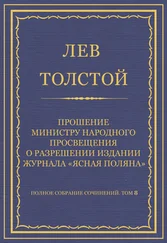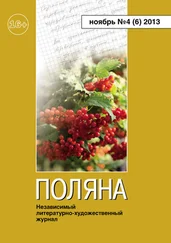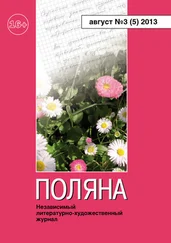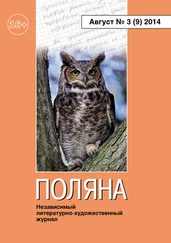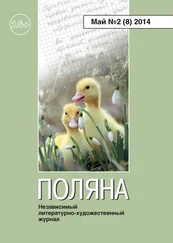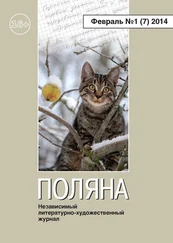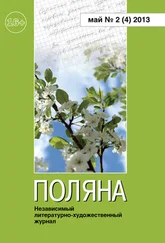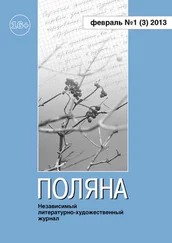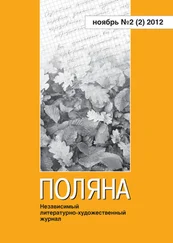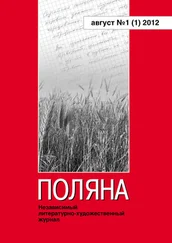Необходимо заметить: голубушка у Крылова появилась не на пустом месте. В первый раз Ворону назвала голубкой Лиса в басне М. М. Хераскова:
Я б целый день с тобой, голубка , просидела,
Когда бы ты запела…
Совершенно очевидно, что здесь голубка функционирует в роли ласкового обращения к женщине: голуби не поют, а воркуют, и любителей слушать их воркотню целый день сыщется, мягко говоря, не так много. По крайней мере лаврами певческого мастерства человечество с незапамятных времен увенчало соловья — никак не голубя.
С другой стороны, у А. П. Сумарокова встречаем обращение, очень похожее на то, что использовал Крылов:
Дружок, Воронушка , названая сестрица!
То, что Крылов учитывал опыт Сумарокова, никакому сомнению не подлежит — достаточно указать хотя бы на такие лексические заимствования, как светик, носок и сестрица , или почти скопированный стих: « Какие ноженьки, какой носок… » // « Какие перушки! какой носок! ». Не прошли мимо внимания Крылова и рифма душа — хороша // дыша — хороша , и тройное созвучье на — ица: ЛисИЦА — сестр ИЦА [53] Эту рифму у Сумарокова позаимствовал Хвостов: «… коварная лисица // Сказала напрямки: „Не верь хвале, сестрица…“».
— пт ИЦА // сестрИЦА — мастерИЦА — царь-птИЦА. Другое дело, что указанные заимствования преобразились: версификационные и лексические находки Хераскова и Сумарокова, в большей или меньшей степени случайные, под пером Крылова обрели статус обязательности, необходимости — это действительно «лучшие слова в лучшем порядке». Так, обстоятельство чуть дыша «отыграет» в знаменитом стихе «от радости в зобу дыханье сперло » (состояние Вороны пародийно повторяет состояние Лисицы!); тройная же рифма у Крылова на самом деле гораздо сложнее, изощреннее [54] Попутно не могу не отметить собственно крыловской поэтической находки — внутренней рифмы, которой, увы, не замечают мастера художественного чтения: Вдруг сырный дух Лису остановил… Здесь наречие вдруг , безусловно, надо читать с фрикативным [х]: вДрУХ // ДУХ.
: сеСТРИЦА — маСТеРИЦА — ЦаРь-пТИЦА [55] Эти СТРЦ особенно ярко проявляются на фоне придыхательного шепотка вступления: «ГолубуШка, как хороШа! // Ну Што за Шейка, Што за глазки!».
, — а сумароковские ноженьки легко выбраковываются: Лисица видит сыр и… его, так сказать, «рамку» {шейку, глазки, перушки, носок ), ничего кроме, какие уж там ноженьки! Впрочем, с портретными чертами Вороны, которых удостаивает своего восхищения Лисица, дело обстоит не так просто — помимо указанной, есть еще одна причина отбора именно этих, а не иных деталей, но об этом мы поговорим немного погодя.
Крылов явно почувствовал психологическую неубедительность и обращения Воронушка : уменьшительно-ласкательный суффикс, пожалуй, не столько смягчает, сколько подчеркивает «воронью сущность» адресата: ворона остается вороной, как ни крути. А вот когда Ворона зовется Голубушкой , ситуация меняется, и радикальным образом.
Как должен среагировать Евгений на то, что к нему обращаются, допустим, Агафон ? Или Акулина — на то, что ее назвали Селиной ? Вероятно, в первую очередь они оглянутся кругом — в поисках тех самых Агафона и Селины , а затем постараются поправить говорящего и т. п. Кстати, наша Ворона, даже будучи самой здравомыслящей вороной в мире, могла бы все равно остаться без завтрака — от неожиданности и изумления (мол, что ж это творится с Лисицей, белены объелась, что ли, коль меня, Ворону, величает Голубушкою?! ) широко разинув рот!..
Но в том-то и дело, что обладательница кусочка сыра ни капли не удивилась — «проглотила» двусмысленное приветствие, не поморщившись и не поперхнувшись, как должное. Стоит заметить, что Голубушка стоит в начале стиха и в начале прямой речи — и в силу этого начинается с прописной буквы. Вместе с тем эта графическая особенность исподволь, по крайней мере визуально возводит нарицательное существительное в статус имени собственного. Кроме того, «приголубив» Ворону, плутовка кардинально меняет и цветовые характеристики адресата своей лести: ворона естественным образом ассоциируется с темными, мрачными тонами, символизирующими низовую, «плотскую» (т. е. подверженную тлению), нечистую [56] В Ветхом Завете заповедано гнушаться и не есть «всякого ворона с породою его» по причине их скверны (Лев. 11:13–15).
, смертельную, греховную и даже адскую сторону бытия [57] В алхимии ворон, изображенный рядом с черепом или надгробием, символизирует черноту и умерщвление, nigredo — первую стадию «Малой Работы», смерть мира, принцип «земля к земле» («…прах и в прах обратишься»).
, тогда как голубушка — со светлыми, высокими, чистыми, небесными, которые традиционно соотносятся с красотой, непорочностью, духовной, божественной природой, колоритом Жизни. Ворон (ворона) — голубь (голубица) составляют одну из символических оппозиций, корни которой уходят в глубокую древность [58] Ср., например, функции ворона и голубя в библейском сказании о всемирном потопе (Быт. 8:6–12). В виде голубя традиционно изображался и Св. Дух («Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь » — Лк. 3:22).
.
Читать дальше