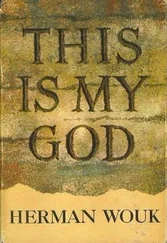С мамой всегда было трудно ладить. Однажды она схватила кирпич и бросилась на сторожа строительной площадки в Бронксе, когда он шлепнул меня по мягкому месту, чтобы отогнать от груды бревен. Я кинулся наутек, больно мне не было, но я испугался. Мама все это видела. Она треснула сторожа кирпичом, а потом вызвала полисмена, чтобы тот арестовал сторожа за оскорбление действием и нанесение побоев. Я отправился в суд в качестве свидетеля. Судья был всем этим делом немало озадачен, поскольку у обвиняемого голова была вся перевязана и сквозь бинты проступали пятна крови, тогда как ни на маме, ни на мне не было ни царапины. После несколько сбивчивого допроса судья выгнал нас вон. Все это припоминается мне очень смутно, но я совершенно ясно помню истошный крик моей матери, когда она опускала кирпич на голову сторожа:
— Как ты смеешь бить моего ребенка?!
Однако не будем отвлекаться. Мама не будет играть большой роли в моем рассказе. С другой стороны, если бы не случай с плойкой, меня бы здесь не было. То, что в тот день случилось, было несомненной причиной того, что мама эмигрировала в Америку и в результате я появился на свет. Отсюда и начнем.
Так вот. Как всем известно, когда вскипает молоко, на поверхности образуется пенка, она на литовском диалекте идиша называется плойка. В детстве меня от нее просто тошнило. Когда мама делала мне какао, она прежде всего снимала с него пенку. Потому-то она при этом однажды и рассказала мне историю своей драки с мачехой, и потом я слышал эту историю сотни раз. В Минске — или, может быть, только в доме моего деда — плойка считалась, видимо, редчайшим деликатесом. Икра, трюфели, фазаны, персики в шампанском не шли ни в какое сравнение со свежей, липкой, желтоватой плойкой. Мамина мачеха, раввинша из соседнего городка под названием Кайданов, родила моему деду семерых детей, и, по маминым рассказам, они всегда получали плойку, а мама — никогда. Эта кайдановская гарпия не только таким подлым образом дискриминировала свою падчерицу, она еще и люто ненавидела маму и все время ела ее поедом за то, что та была куда красивее, чей ее собственные дети. Я цитирую маму. Она говорит также, что Кайданов был известен тем, что все тамошние уроженцы были отпетые сволочи.
Ну, так вот, то, что маме не давали плойки, ужасно ее бесило, и тут-то кроется самый главный момент всей этой истории. Каждый, кто пытается лишить маму чего-то, принадлежащего ей по праву, рано или поздно об этом пожалеет. В тот памятный день мама — уже изрядно выросшая, чего эта кайдановская дура не сообразила, и явно ощущая себя в свои пятнадцать с половиной лет совсем взрослой женщиной, с вполне округлившейся грудью, — решила, что, Бог свидетель, настала пора вскипятить молоко и съесть плойку. Другие дети были меньше ее, и, конечно, им полагалось в первую очередь все молоко, какое было в доме; но мама восстанавливала давно попираемую справедливость. Кайдановская баба застала ее за этим занятием и, не вникая, что и почему, набросилась на нее.
— Почему ты ударила свою мать? — спросил мой дед, прибежавший домой из синагоги.
— Она мне не мать, и я ее не ударила, — ответила мама. — Я только дала сдачи.
Вот так и случилось, что дочке раввина, которой еще и шестнадцати лет не стукнуло, разрешили — и, по сути дела, чуть ли не велели — одной уехать в Америку. Мама была тогда очень красива и стройна как тополь, она была словно пополам перерезана в талии, стянутой корсетом. Я видел ее фотографию, сейчас уже изрядно потускневшую, снимок был сделан на пароходе. Понять не могу, каким образом нищая девочка из захолустного Минска ухитрилась вырасти такой красавицей, но она и вправду выглядела как шикарная манекенщица, вот она, вся в турнюрах, с пышным бюстом и роскошными длинными волосами, в шляпке с широкими прямыми полями, стоит, опершись на поручни, около спасательного круга. Я скажу вот что: если какая-то дочка российского раввина могла отважиться на то, чтобы в одиночку отправиться в Америку, то это должна была быть моя мать. Когда недавно я советовался с ней, принять ли мне диковинное предложение работать в Белом доме, она решительно заявила:
— Почему нет? Скажи «да». Мир принадлежит тем, кто дерзает и рискует.
Погодите. Вот вам пример того, как человека может подвести память и как опасно доверять мемуарам — да и, возможно, любым историческим трудам. Вот я честно пытаюсь рассказать все, как было. И, однако же, немного подумав, я вспомнил, что ведь на самом деле я вовсе и не советовался с мамой, поступать ли мне на эту работу. А свой афоризм, который я сейчас процитировал, она изрекла совсем в другое время и по другому поводу. Дело было так. Несколько лет назад мы отдыхали на одном из островов Карибского моря. Мы остановились в отеле на вершине горы — все мы, то есть моя жена и дети, я сам и мама. Перед нашим отъездом моя сестра Ли, нарушив первую форму семейной секретности, раскрыла маме наши с Джен отпускные планы, и мама сразу же позвонила и пригласила себя поехать вместе с нами.
Читать дальше