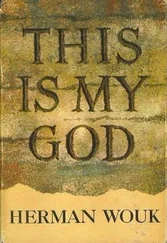Вот так и случилось, что он целых два года набирался храбрости сделать ей предложение. К тому времени весь «Кружок» уже разбился на пары, и свадьбы следовали одна за другой. На одной из таких свадеб, когда вино лилось рекой, мой отец наконец-то препоясал чресла, подошел к маме и обратился к ней с такими словами:
— Ну, Зеленая кузина! Алевай аф дир! (то есть, «Дай тебе Бог быть следующей!»)
Мама ехидно ответила:
— Да будут благословенны благословляющие меня!
В тот вечер он сделал ей предложение и был вознагражден тем, что ему была оказана высокая честь сопровождать большую «йохсенте» на метро домой в Бруклин. После этого он был вынужден истратить еще пятицентовик, чтобы вернуться в свое логово в Бронксе, что занимало на метро часа два. Несомненно, в ту ночь грохочущие вагоны метро были крыльями ангелов. Вы понимаете, что это за ощущение. В такой момент неважно, едете ли вы на метро или в «роллс-ройсе». Мама говорит, что папа был первый мужчина, который ее поцеловал. Я тоже в это верю.
Позднее папа, пытаясь объяснить некоторые мамины чудачества, пожимал плечами и говорил мне на идише:
— Зи ист аребес а тохтер !(«Никогда не забывай: она дочь раввина!»)
Обратите внимание: а ребес а тохтер. Это второе маленькое «а» перед словом «дочь» имеет огромное значение. Когда я как-то спросил его, почему он так долго ждал, прежде чем сделать маме предложение, он пожал плечами, улыбнулся грустной отстраненной улыбкой и ответил:
— Ну, понимаешь ли: а ребес а тохтер.
Папа многого не договорил, ожидая, что я пойму, когда вырасту, или еще почему-то. Как я понимаю, точно так же и я говорю со своими детьми.
Папа жил тогда в какой-то дыре в Северном Бронксе, за которую платил гроши. «Кружок» собирался по вечерам в субботу и воскресенье в Нижнем Ист-Сайде. По праздникам они отправлялись в Центральный парк покататься по озеру на лодке, или на Кони-Айленд, или еще куда-нибудь. Вечерами они рассуждали о политике и литературе, пели хором русские и еврейские песни или ходили в театр — либо в театр на идише, либо в какой-нибудь из бродвейских театров, — танцевали, флиртовали, читали стихи, развлекались, иногда до зари. Они были молоды и веселы, они жили в «а голдене медине», они избавились от царского деспотизма и освободились от жестких религиозных догм и социального расслоения еврейского Минска, и теперь они попали в водоворот расцветающей идишистской культуры, бурлившей вокруг Кэнэл-стрит у подножия Уильямсбургского моста. Когда мама вспоминает об этом времени, в ее слабом голосе звенит надтреснутое эхо давно умчавшихся радостей жизни, и, клянусь, я ей завидую. Нищие, тяжело трудившиеся по шесть дней в неделю, вынужденные по часу или больше ехать на метро из дома на работу, они жили весело и были полны надежд на счастье в новом мире. Я наслаждался многими радостями жизни — в частности, такими, о которых мои родители и не мечтали, — но у меня никогда не было своего «Кружка», потому что я никогда не был молод в новой стране, только что обретя свободу.
И все-таки это была для папы чертовски долгая поездка на метро от Флэтбуша до Бронкса — после того как первый любовный восторг поутих, а тот единственный поцелуй, который — я не знаю, но уверен — каждый раз, прощаясь, дарила ему большая «йохсенте», перестал уже казаться такой возбуждающей и Божественной новинкой. И скоро папа стал нажимать на маму, чтобы она назначила день. Ее любвеобильный ответ заключался в том, что она осведомилась о состоянии его финансов. Например, хватит ли у него денег, чтобы купить кровать, матрас, стол и два стула? Нет, ответил он, не хватит. Они сложили вместе оба своих банковских счета. Этого все еще было недостаточно.
— Каким образом, — спросила мама, — два трупа пустятся в пляс?
Иногда она выражается довольно своеобразно.
Тогда папа сказал, что можно взять заем, но она недвусмысленно наложила вето на это предложение. Никаких долгов! Затем, вспомнив, что папа был склонен порой транжирить деньги (в этом отношении он так и не изменился до конца своих дней), она спросила, нет ли у него уже каких-нибудь долгов. Папа чистосердечно признался, что еще в Минске он позаимствовал деньги в кассе лесопилки, и тогда мама тут же приняла указ. Они оба будут копить деньги, чтобы выплатить Оскару Когану весь долг, до последней копейки. После этого они будут копить на покупку мебели. И только после этого они поженятся.
Потому-то папе пришлось ждать еще полтора года после того, как он сделал маме предложение. Со временем мама все-таки снизошла к его любовным заклинаниям и к тому, что он совсем изнемог от постоянных двухчасовых поездок в метро, и дала согласие на покупку мебели в кредит у реб Мендла Апковича, — но только после того, как они смогут внести в задаток не меньше половины требуемой суммы. Ровно пятьдесят процентов — и только после этого они разобьют стакан на свадьбе.
Читать дальше