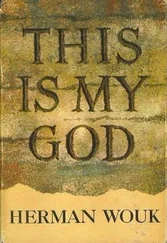— Ну что ж, проводи меня до юридического, — сказал я, почему-то приободренный. — Мне надо зарегистрироваться.
Перед корпусом имени Эйвери Марк протянул мне свою костлявую руку. Я ее пожал, и мы взглянули друг другу в глаза. Мне подумалось, что, хотя Марк был моим лучшим другом в Колумбийском университете, я, в сущности, мало что знал о Железной Маске. Он похлопал меня по плечу:
— Ну, ни пуха ни пера! Не пропадай, Годол!
Я поднял брови. Когда-то, когда мы напились пива и слегка окосели, я рассказал ему про минскер-годоловский период моей жизни, но с тех пор Марк ни разу об этом не упоминал — до этого дня. Но он уже шел прочь по мощенной кирпичом дорожке вдоль философского корпуса, мимо бронзовой копии роденовского «Мыслителя».
* * *
Из того, что было после этого, у меня от колледжа осталось только одно воспоминание. После церемонии присуждения степеней, в теплый майский вечер, мы устроили вечеринку на открытом воздухе, на площадке перед статуей «Альма матер». Сбросив пиджаки, мы танцевали с нашими девушками под небольшой студенческий джаз. Среди нас был Боб Гривз; он притопывал, скользил, извивался и кружился, как он это делал и тогда, когда был во фраке и в белом галстуке; как обычно, левую руку он держал высоко и прямо, только, конечно, на ней не было белой перчатки. С того дня я ни разу не видел Боба Гривза, и я понятия не имею, что с ним стало. Не знаю почему, но моя жизнь в колледже завершается в моих воспоминаниях именно этой картиной: Боб Гривз, без пиджака, высоко вытянув левую руку, танцует под светом фонарей перед статуей «Альма матер», немного смешной и немного грустный.
Глава 55
Телефонный звонок Куота
Я работал в летнем лагере для мальчиков в Беркширских горах руководителем художественной самодеятельности — зарабатывал деньги на свое обучение на юридическом факультете, — когда пришла телеграмма о смерти «Бобэ». Она тихо скончалась во сне в квартире тети Ривки. Через час после того, как мне вручили телеграмму, я уже ехал в Нью-Йорк.
Папа и все дядья соблюдали семь дней строгого траура, они сидели на низких табуретках, небритые и без обуви, в квартире тети Ривки, куда то и дело приходили соболезнующие. Все шло, как положено: зеркала были завешаны простынями, и никто, приходя или уходя, не здоровался и не прощался. И тем не менее нельзя сказать, что это была неделя сплошной скорби. В некотором смысле траур стал поводом для семейного воссоединения. За эти дни в квартире тети Ривки перебывала вся наша «мишпуха», даже дядя из Бэй-Риджа. Побывали там и Бродовские, и Гроссы, и Эльфенбейны, и большинство прихожан Минской синагоги. Проститься с «Бобэ» пришел и кантор Левинсон, который в обыкновенном будничном костюме выглядел каким-то странно маленьким и жалким. Нанес визит и Святой Джо Гейгер. А как-то вечером в постоянно открытую дверь вошла миссис Франкенталь, она была словно в воду опущенная, потому что ее муж в это время сидел в тюрьме. Поль женился — она шепнула мне, что на гойке, — и работал где-то во Флориде.
«Зейде» приходил каждый день и вместе с папой и его братьями штудировал в память об усопшей отрывки из Талмуда. Я сидел над Талмудом вместе с ними. Я словно бы вернулся в прошлое. Я говорил на идише, ел бронксовскую еврейскую пищу: маринованную селедку, нут, соленые тыквенные семечки, бисквитные пирожные, медовые пряники, халву — и регулярно молился (конечно же, только за компанию, ибо я объявил себя закоренелым атеистом). То же самое делал папа, у которого шевелюра поседела, как борода дяди Йегуды. Как ни диковинно мне сейчас об этом писать, я должен признаться, что мне нравилось справлять траур по «Бобэ». Я снова был дома. Вся эта неделя была пронизана теплыми, радостными воспоминаниями о маленькой хромой старушке, которая, после того как она была долго прикована к постели, завершила свое угасание тем, что, как выразился папа, встретила Ангела Смерти вопросом: «Ну где ты так долго пропадал?».
Мы беседовали о жизни в старом галуте, о бабушкиной кислой капусте и настойке, о ее зеленых мазях и приступах хандры, о семейных воспоминаниях. Я разворошил осиное гнездо, вспомнив, как она пекла мацу; а пекла она ее так, как никому больше не удавалось. Тетя Ривка тут же сказала, что она сделает мацу. Папе удалось ее отговорить, однако на другой день мы все уже ели мацу тети Ривки и мацу тети Сони. А потом эпидемия приготовления мацы охватила всю «миш-пуху», и когда кончились дни траура, у всех нас уже даже ноздри пахли мацой. Тетя Фейга пекла мацу, жена Бродовского пекла мацу, и, честное слово, даже моя сестра Ли подхватила эту заразу и начала печь мацу. Для урожденной американки у нее получилась не такая уж плохая маца. Но когда ешь мацу, нужно знать меру. Маца очень плохо переваривается, и после этого у меня добрый месяц в животе все время была революция. И все же это была оргия, которую приятно вспомнить. Я готов ее повторить когда угодно.
Читать дальше