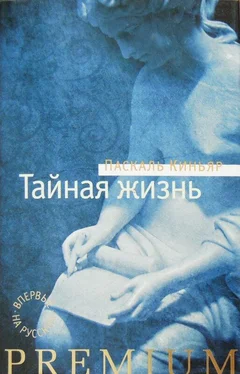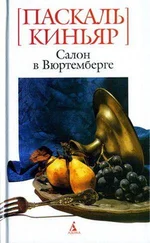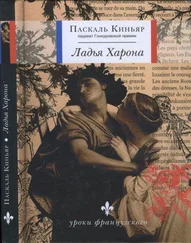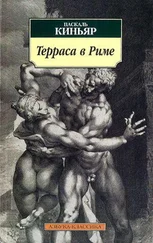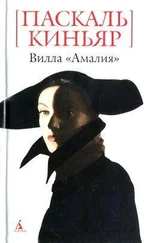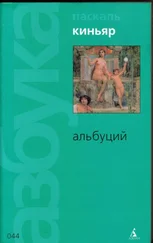*
У меня нет возможности долго рассуждать о причинах, толкнувших моих современников:
1) употреблять, в отличие от древних, слово «либидо» вместо слова desiderium ;
2) употреблять «фаллос» (фаллус) вместо fascinus .
Оба этих слова, «либидо» и «фаллус», употребленные в смысле, который им придают мои современники, не имеют ничего латинского, и смысл их не отражает ничего античного. Это выше моего понимания.
Оставляю оба моих утверждения (которые, на мой взгляд, связаны между собой) на рассмотрение филолога. (Я ненавижу дискуссии.)
*
Тезис I. Трудно быть счастливым.
Тезис II. Но трудно не настолько, как пытается внушить нам общество.
Проблема, которую ставит перед нами счастье, сбивает с толку: редки, крайне редки те, кто его желает. Нам больше нравится рассказывать о своих несчастьях и занимать этим рассказом слух другого, чем умалчивать о своих радостях и переживать их в одиночестве.
В древнеримском сознании — следует признать это — радость губительна.
*
Прощание беспечально. Прощание — это просто разлука; рождение — прощание с материнским лоном; весна — прощание со смертью; летальное — прощание с витальным и т.д. В неизбежности нет ни счастья, ни несчастья; это экстатическая точка смещения; это увлекательная минута; это восторг или ужас, если, конечно, мы умеем отличить одно от другого; это то, что древние римляне называли приращением, augmentum ; это предшествующий момент; это то, что поддерживает неопределенность.
*
Прощание — это приращение «до свидания».
А смерть — приращение в процессе воспроизведения жизни.
*
1. Говорят, что счастье — это паучьи сети, повисшие между двумя ветвями дерева и сверкающие каплями росы. За них цепляется любой отблеск, робко пробивающийся на заре.
2. Паучьи сети — это смертельные ловушки, в которые устремляется мошкара.
Счастье — это тоже ловушки, в которых запутывается желание.
Так что нужно опасаться счастья.
Счастья, которого опасается прощание .
Смерти, которой прощание не говорит «до свидания» .
*
Меня воодушевляет радость прощания навсегда. То, что меня воодушевляет, уходит из общества. Подлежат освобождению одни старики. Причем ясно, что выпутаться до конца невозможно, виновата изначальная завороженность, а для того, чтобы по-настоящему освободиться, надо уйти от истоков. Мне хотелось бы, чтобы каждая книга, которая будет написана, указывала на угрожающую ей пропасть. Мало того что оригинальных произведений никто не ждет — они и сами удручены своей произвольностью, она их задевает и ранит. То же самое происходит и с каждым мужчиной, и с каждой женщиной. Мы ничем не дорожим. <���…> Язык никогда не опишет произвольность знака, даже в слове ничто . Даже и не надеюсь показать, до какой степени это может дойти, да и пытаться не буду, но хотелось бы, чтобы мои читатели почувствовали это так же непосредственно, как тот, кто смотрит мне прямо в глаза.
*
I. Воображаемое пространство держит нас в рабстве всю жизнь. Галлюцинаторное пространство разворачивается в теле каждую ночь. В нем с изумительной и мрачной мощью кристаллизуется изначальная ситуация, управляющая нашей жизнью. Согласимся, что изумительное прощание — одна из величайших радостей в этом мире. То место, где желание заволакивается ворожбой, не есть на самом деле ни мир, ни реальность. А потому, как только перед нами вырисовывается реальность, нас охватывает ощущение чуда и полный мрак.
*
Многие десятки лет пребывая в депрессии, я не понимал одного из самых прекрасных стихотворений, написанных Жаном де Лафонтеном. Я слово в слово понимал начало: «Я музыку люблю, игру, и страсть, и книги…» — но не мог согласиться с тем, что туда можно включить «Мне даже радостны сердечной грусти миги». Признать своим истинным повелителем тоску казалось мне манерностью, бахвальством, салонной эпиграммой, острым словцом. Я видел в этом уступку ужасу, оскорбление истинного отчаяния. Мне казалось, что невозможно наслаждаться чудовищной душевной раной. Неужели на краю бездны кто-то может черпать жизненные силы, неужели к бездне можно приближаться до бесконечности? Я был раздавлен. Я неотвязно мечтал ускорить свою смерть; я точил зубы, клыки, бивни, рога дикого зверя; заострял когти, чтобы они могли раздирать и причинять боль. Теперь я понимаю: пускай меланхолия не внезапный взрыв, подобный смеху, и все-таки это смех. Беззвучный смех. Это наслаждение более медленное, чем самый громкий хохот. Это негромкий смех. Это побочная радость, но она, возможно, самая протяженная из всех радостей.
Читать дальше