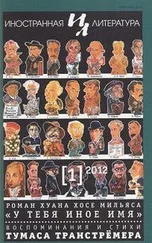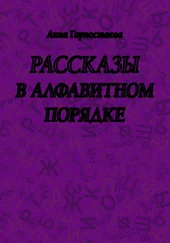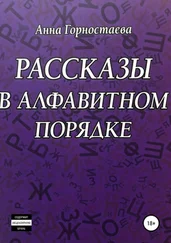Стол у меня в спальне был очень удобный и всецело подчинен интересам стула. Между ними возникал некий удивительный союз, который прежде почему-то ускользал от моего внимания. И все прочее мне казалось хорошо и ладно – и шариковая ручка, где внутри прозрачного скелетика циркулировала паста, и тетради, сшитые посередине так, чтобы могли двигаться наподобие локтевого или коленного сустава. Светлая сторона бытия и казалась светлой, потому что все предметы здесь были всамделишные, и это немудрящее обстоятельство придавало им неотразимую привлекательность. Меня так и подмывало пойти на кухню, потрогать вилки, ложки, стаканы; прогуляться по квартире, убеждаясь, что шкафы никуда не делись и что у них имеются дверцы, которые движутся на петлях, чтобы то прятать, то обнаруживать емкости, куда мы кладем вещи. Неподалеку, на краю стола, лежали учебники, и я не устоял перед искушением – взял в руки грамматику и раскрыл ее ради чистого удовольствия видеть, как устроено это изделие, состоящее из бумажных листов, но также и для того, чтобы проверить, как действует наречие в теле предложения. И быстро убедился, что оно призвано очищать соки глагола или прилагательного – примерно такая же роль в наборе наших внутренностей отведена почкам. Может, поэтому наречия так скоро разлагаются, выделяя при этом такой едкий запах, который застрял в моей обонятельной памяти.
По мере того как я пытался классифицировать реальность, она все больше представлялась мне чем-то совершенно неохватным и необозримым, как если бы создавалась на протяжении тысяч, а то и миллионов лет. Тем не менее я все же решил начертить ее и не откладывать это надолго, потому что надо успеть, пока родители не вернулись. Так что вооружился листком бумаги, ручкой и приступил. Но с чего начать? В тот миг мне показалось, что ядро этой действительности – это моя грудь, так что я написал посередине листка слово грудь и от него повел в разные стороны линии – такие примерно, как на картах, – а каждой болезненной точке дал имя. Разделавшись с собой – или с самой внешней частью себя, – я решил заняться структурой стола, на котором писал, поименовав каждую из его словесных форм и каждый предмет, находящийся в его ящиках, но тут мне пришлось приклеить к первому листку еще несколько, потому что, как ни старался я писать помельче, все же вылезал за границы листка, отчего создавалось впечатление, будто там и кончается мир. Потом в какой-то момент я обернулся на дверь в спальню, задержался взглядом на задвижке и понял, что до нее черед дойдет лишь через много часов.
И стало быть, задача мне предстоит непосильная, особенно если учесть, что, завершив карту физическую, должен буду начать политическую, чтобы включить в нее родителей и бабушек с дедушками, причем четко разграничить покойных и живых, а также друзей и врагов, учителей добрых и злых, долговязых и приземистых, полицейских, пожарников, мясника, булочника, соседей… Вот Лаура, например, должна будет занять центральное место по отношению ко мне, поскольку я по отношению к ней иногда чувствую себя окраинным кварталом. На подробной карте действительности не может не быть муравьев, электропроводов, лягушек в пруду, всякой всячины, лежащей у людей в карманах. В самом деле, совершенно невозможно было довести такую затею до конца, но, вместе с тем, кто-то же должен был сделать реестр всего этого, чтобы потом, когда все погибнет и пропадет, как по ту сторону бытия, оставалась об этом хотя бы память, доступная любопытному глазу.
В этот миг я услышал шум в дверях и, юркнув в постель, схватил спрятанную под подушкой грамматику. В проеме появился мамин силуэт, а я сделал вид, что сплю, чтобы полнее ощутить ее тепло, когда она склонится надо мной и пощупает мне лоб. Потом сквозь опущенные ресницы я наблюдал, как она выходит из комнаты. На ней был серый костюм с узкой юбкой, который она надевала только по самым торжественным случаям.
Когда я остался один, тут же понял, что слабость прекрасно уживается с тревогой. Надо было что-то делать, а что именно – я не знал. Не открывая глаз, принялся составлять новую карту, а начал на этот раз с кровати, которая сама по себе была целой областью. Предстояло занести ее ножки и деревянную тумбочку в изголовье, и пружинный матрас, и простыни… И разумеется, мог ли я не задуматься о том, в каких отношениях состоят тюфяк и покрывало, хотя еще до того, как задать себе этот вопрос, я уже знал, что отношения эти – интимные. Добравшись до подушки, я принялся обсасывать это слово, вертеть его во рту так и этак, наслаждаясь его особым вкусом. А вместе с тем я чувствовал, что это – очень забавное изделие, снабженное неким защитным чехлом, выполняющим те же функции, что и наша кожа. Томясь любопытством, я уселся в постели, взял подушку в обе руки и оголил ее, чувствуя при этом между ног некое оживление, напомнившее те минуты, когда в подъезде, по ту сторону реальности, задирал юбку Лауре. А подушка, лишенная наволочки, показалась мне искалеченным, увечным телом, а вслед за тем подумалось, что есть нечто непристойное в этом разглядывании. И я вернул ей кожу, натянул наволочку и, когда вновь прильнул щекой к податливо-упругой плоти, ощутил чувство, схожее с благодарностью или с близостью – то и другое было в моих отношениях с кроватью чем-то совершенно новым.
Читать дальше