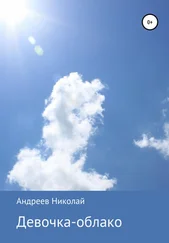И, конечно же, твой давнишний ассистент, который сейчас работает над рекламными снимками их дочери. Она (дочь) не в состоянии держать свой рот закрытым. Она рассказывает ему, что мать из-за брачного контракта не может подать на развод, что в таком случае она останется ни с чем. Без денег, без связей, без какой-либо специальности, без друзей. Она рассказывает ему, что отец выплачивает алименты по меньшей мере трем другим женщинам. Она рассказывает ему, что мать работает больше, чем кто-нибудь еще, что она смотрит за ней, за домом и за штатом служащих и получает за это ежемесячное пособие.
По ее щекам стекают глазные капли. Ее глаза по-прежнему налиты кровью. И ты задумываешься, должен ли сделать что-нибудь для нее. В конце концов, тебе все известно. Возможно, ты должен рассказать ей, в каких местах дали трещину ее надежды, возможно, ты должен рассказать ей, какого рода соглашение она заключила. Но когда она убирает капли назад в сумочку, ты решаешь, что на самом деле нет больше ничего, что ты мог бы сделать, нет больше ничего, что ты мог бы сказать. Потому что она не стала бы тебя слушать. В конце концов, Дэймон был не единственным, кто использовал ее в своих интересах.
Она слегка прикасается носовым платком к своим щекам, смотрится в золотую пудреницу, проверяя, все ли в порядке. Ты бросаешь взгляд на часы. Пора уже уходить.
Ты допиваешь свой кофе, смотришь на последний пончик, приказываешь сам себе не есть его.
— Пошли, — говоришь ты своей спутнице.
— А-а-а… нам надо идти? Я устала, — вздыхает она и надувает губки.
Ты почти сдаешься.
— Нет, — отвечаешь ты. — То есть «да», да, нам надо идти, «Пресбитери» почти рядом, это совсем недалеко. Кроме того, я знаю этого директора по развитию, он весь изведется, если мы не начнем вовремя.
— Ну, давай же, — добавляешь ты, поднимаясь и кладя деньги на стол.
Она обижается, но слушается тебя и встает. Когда она наклоняется поднять свою сумку, все мужчины, взгляду которых она доступна, пялятся на нее. Ее юбка достаточно коротка, чтобы, наклонившись, она явила взору окружающих свои трусики. У нее длинные ноги, а волосы струятся волнами в солнечном свете, когда она распрямляется. Но несомненная ее особая примета — это губы. У нее великолепные полные губы. Ты назвал их «губами для минета», когда рассказывал о ней своему директору по развитию.
Ваши движения привлекли внимание Елены. Она отложила в сторону пудреницу и теперь уставилась на тебя поверх чашки кофе, которую подносила ко рту. Она изучает тебя, хмурит брови. Она рассматривает сопровождающую тебя девушку, как будто проверяет факты, цифры в бухгалтерском отчете. Твоя спутница замечает это и тоже отвечает ей пристальным взглядом, но у нее он несколько иной. Как если бы она разглядывала экспонат под стеклом в музее, который не хотела посещать.
Испугавшись, ты решаешь обратиться в бегство, шлепаешь свою спутницу по ее упругой маленькой заднице и говоришь:
— Давай, пошли.
Никто не окликает тебя по имени, когда ты прокладываешь себе путь между столиков. Никто не догоняет тебя на тротуаре. Кажется, ты отделался. Но только чтобы убедиться в этом, ты решаешь пойти кружным путем, через Мэдисон. Только чтобы убедиться, ты избегаешь идти вдоль ограждений, избегаешь приближаться к ней хоть на чуточку больше, чем это необходимо.
У перехода твоя спутница незаметно вкладывает свою руку в твою ладонь, она смотрит сначала налево, потом направо, потом на тебя — проверить, собираешься ты перебежать улицу или будешь дожидаться сигнала светофора, — и беспечно говорит:
— Боже мой! Ты видел женщину рядом с нами? Ты видел ее блузку?! Какого черта она себе позволяет? Могла бы проявлять чуть больше уважения…
Однажды, очень давно, я отпросился с работы по болезни, хотя вовсе не был болен.
Однажды мы взяли напрокат машину и отправились в Гудзонскую долину.
Однажды мы разглядывали произведения древнего искусства, после чего пообедали и отправились гулять в лес.
Однажды я воткнул себе в ноздри дикие цветы, чем вызвал у тебя смех.
Однажды, все еще смеясь, ты толкнула меня на опавшие листья, уселась на меня сверху и, внезапно прекратив смеяться, посмотрела на меня очень серьезно и попросила:
— Пообещай, что ты скажешь мне, если когда-нибудь меня разлюбишь.
Однажды ты предположила, что когда-нибудь это случится со мной.
Однажды я сказал:
— Обещаю, обещаю.
У древних греков не было слова для обозначения романтической любви. Для них любовь к предмету и любовь к женщине были одним и тем же. Когда они говорили или писали об отношениях мужчины с женщиной, то употребляли слова, означавшие «принадлежать», «высоко ценить» или «иметь секс». Когда Одиссей вернулся домой, они с Пенелопой не обнимались. Они трахались.
Читать дальше