— Анечка, — негромко сказала мать, заглядывая через его плечо. Крашев вздрогнул. — Анечка… — повторила мать уже грустно и покачала головой, рассматривая фигуру на кладке.
— Я никогда не говорил тебе, что это она. Откуда ты знаешь? — он вскинул голову.
— Ах, жалко, жалко… — все так же покачивая головой и не слушая его, говорила мать. — Ах, жалко…
— Что же ее жалеть? — Он словно отстаивал какую-то свою мысль. — Живет, как все: замужем, дети, на Севере денег, небось, кучу заработали.
— Эх, какие деньги?.. Какой Север?… — мать присела на стул, но глаза ее искали фигурку Анны. — Какой муж? Это Васька-то?.. Был муж, да весь вышел… Пьяница, подзаборник.
— Но ты же мне писала, что они на Севере.
— Уезжали… — вздохнула мать. — Да куда с таким-то… А на Север-то она с горя да от позора решилась. Да с таким суженым и там не больно весело… Уже месяца два, как вернулись. Хорошо, хоть школьный дом никому не пришелся, а то и жить негде было бы… Ах, Анечка, Анечка… — Мать говорила еще о чем-то, наверное, ругала Ширю, но он уже ничего не слышал, спеленатый свалившимся на него стыдом и мучительной жалостью к тоненькой фигурке на кладке и к женщине в светлом халатике, и безуспешно пытался соединить их воедино…
— Ты бы зашел к ним, — услышал он голос матери. — Вы же с Васькой друзьями были. Погонял бы его. Разбудил… Хотя… — она покачала головой, безнадежно и тяжело махнула рукой. — Вряд ли… Но сходи…
— Схожу, мать, обязательно схожу, — тихо, но твердо сказал Крашев.
Глава 5
Так как был обычный будничный день и около десяти часов утра, то Крашев настроился на встречу с Анной. Но в школе, где Анна работала и куда он зашел, ее не было. Узнав у молодого деловитого завуча, что уроки у Анны позже, Крашев медленно пошел к старому школьному дому.
Как и много лет назад, ни кнопки звонка, ни собаки здесь не было, и Крашев все так же медленно прошел мимо кустов роз и нерешительно постучал в стеклянную дверь веранды.
— Чего стучишь? Иди сюда, — раздался откуда-то сбоку голос, и тогда, обернувшись, он увидел поставленную между нескольких густо обсыпанных плодами деревьев беседку и сидевшего в ней друга детства — Ширю…
Крашев сидел рядом с Ширей, глядел во все глаза и не знал, чему удивляться: неожиданной встрече, виду друга детства или тому, что тот в такое раннее утро («рабочее», — подумал Крашев по своей директорской привычке) был явно пьян.
Потом, сообразив, что возможности напиться с утра у жителей этого утопающего в виноградных лозах городка иные, чем на Урале, уже спокойней посмотрел на Ширю.
Что перед ним Ширя, он догадался сразу, еще по голосу. Но, наверное, это было единственным, что не изменилось в нем за минувшие годы. Вместо упругого, сбитого, немного неровно скроенного, любящего одеваться в модное, заграничное, Васьки Ширяева перед Крашевым в майке и старых, потрепанных брюках сидел лысый толстый человек с неимоверно огромными и жирными плечами, поросшими редкими длинными волосами. Несмотря на то, что человек был пьян, тусклые, подтечные глаза его смотрели цепко, а чуть косоватый рот ухмылялся. На миг Крашеву показалось, что это какая-то кукла, пародирующая друга детства; кукла, на которой подвели, подчеркнули, выпятили все нехорошее и некрасивое, что чуть-чуть, еле-еле намечалось в семнадцатилетнем Шире, и убрали, затушевали все здоровое, доброе, хорошее…
— Ну, вот и явление Христа… — сказал Ширя, ничуть не удивившись появлению Крашева, лишь неровно ухмыльнулся. — Хотя тот являлся чаще…
— Так уж пришлось… — проговорил Крашев, словно оправдываясь, все еще ошеломленный и внезапной встречей, и изменившимся видом друга, и его странным равнодушием. — Но ты ведь тоже не заходил, а бывал и в Москве, и на Урале.
— Бывал, бывал, — чуть растягивая слова и все так же косо улыбаясь, сказал Ширя. — Я везде бывал… И в Нью-Йорке, и в Токио… И в Москве, и на Урале… А зайти не заходил — это верно…
— Ну, вот не заходил, — сказал Крашев бодрым голосом. — И я не заходил. — Ему показалось, что говорит это за него кто-то другой, а на него самого наваливалось странное, какое-то злое, безрассудное чувство. Он вспомнил, как стоял вчера у калитки под дряхлым столбом с тусклым фонарем, вспомнил женщину в светлом халате, детей и понял, что зло и дико завидует и ненавидит эту бесформенную пьяную глыбу. И ревнует. Захотелось сказать что-то злое, обидное, и, понимая, что говорит он глупо, что к людской злости Ширя, наверное, давно глух, а обидное вовсе не замечает, продолжал:
Читать дальше
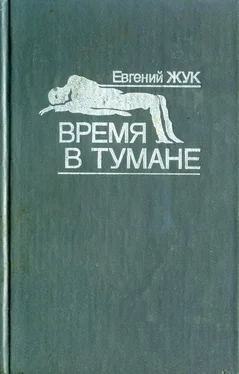




![Евгений Щепетнов - Время зверей [СИ]](/books/403908/evgenij-chepetnov-vremya-zverej-si-thumb.webp)
![Евгений Гаглоев - Время Темных охотников [litres]](/books/407061/evgenij-gagloev-vremya-temnyh-ohotnikov-litres-thumb.webp)





