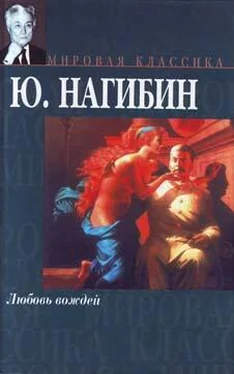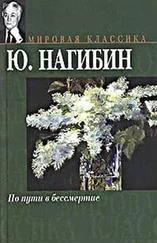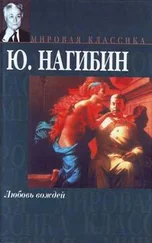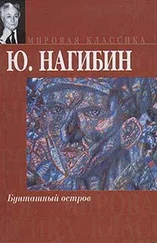О льве все забыли. Впервые с тех пор, как маленькое желтое тело, завернутое в одеяло, оказалось в доме. Он всегда был тем центром, вокруг которого вращалась жизнь семьи. Но герои устали от вечного напряжения и устроили перекур.
Чанг лежал в физкультурном зале, дованивающем старой дезинфекцией, ножным потом и летней пылью. Зал был пуст, если не считать сваленных в углу пыльных матов, шведской стенки и коня с ободранной дерматиновой шкурой. Лев скучал, иногда чихал от пыли и не мог взять в толк, почему его все покинули, даже верный страж Рип. А бедняге Рипу сказочно повезло, впервые в жизни он получил сахарную косточку, и перед таким даром не устояло его преданное сердце. Жалким зубишкам не совладать было с крепким мослом, но даже притворяться, что ты грызешь, — что может быть упоительнее? И он мусолил, покусывая, кость, скреб ее клычками, волтузил по полу, чуть все зубишки не обломал и был счастлив древним собачьим счастьем. И все же Рип вспомнил о Чанге, выбрался, спотыкаясь, с костью в коридор, чтоб не украли, и со всех ног помчался в физкультурный зал. Чанг лежал спокойно и глядел в окно. Рипа он даже не заметил. Тот вернулся к кости, из последних силенок втащил ее в класс — чувство признательности требовало расправляться с ней на глазах щедрых дарителей.
Чанг мог бы и сам навестить пирующих, но он не выносил запаха спиртного. По этой причине он несколько охладел к Урчам, ведь даже Урчатам давали пригубить сладкой хванчкары. К тому же он на дух не терпел киношников, даже если от них не пахло сивухой, что случалось редко. Они были слишком шумны и размашисты для сдержанного, воспитанного льва.
Чанг предпочитал одиночество. Пустыня не возвращалась в эти первые тихие дни после отъезда из дома. Пространство зала источало сильные и недружественные запахи, немногочисленные предметы, находившиеся в нем, были чужды и непонятны.
Лев с усилием поднялся, перетерпел короткую боль в крестце, потянулся и подошел к окну.
То, что он увидел оттуда, заинтересовало его: через решетчатую ограду, окружающую школьный участок, перелезал парень в полосатой рубашке. Полосы были продольные — черные и белые; какой-то генетической памятью Чанг вспомнил зебру, которой никогда не видал, поскольку не посещал ни цирка, ни зоопарка. Полосатый визитер привлек его некой прародностью. Он мотнул головой и ненароком толкнул раму. Окно отворилось.
Парень спрыгнул на землю, присел, огляделся и затрусил по асфальтовой дорожке к диким яблоням, усеянным маленькими твердыми незрелыми яблочками. Чанг вскочил на подоконник и спрыгнул на землю. Никаких враждебных намерений у него не было. Им двигало любопытство. Познакомиться хотелось.
Но сперва познакомимся мы с этим новым антигероем, появившимся в нашем рассказе. Это был студент строительного института. Разумеется, комсомолец. Не москвич. Жил в общаге. Сейчас находился на каникулах между сенокосом и жатвой. С пустым карманом — выпить не на что. А хорошо бы освежиться холодным пивком в жаркий московский летний день! Но с этим глухо, и он просто шел. Гулял. В голове не ютилось ни одной мысли, пустая емкость гудела. И вдруг он углядел сквозь решетку дикие яблони. Ему ужасно захотелось отведать яблочка. Он знал, что оно будет каменно-твердым и таким кислым, что сведет скулы. В деревенском детстве привык он отряхивать соседские яблони и портить желудок незрелыми плодами. Случалось, и дизентерией расплачивался за свои шалости, но ничто не могло остановить лакомку. Удовольствие от кражи, нарушения закона и уязвления ближнего распространялось на мерзкий продукт.
Он увидел зеленые яблочки, и сразу челюсти затеснило предчувствием кислоты, заурчало в желудке, готовом к отравлению, и пустой тяжелый котел на плечах полегчал — в нем образовались какие-то связи, сцеплялись шестеренки зачаточного мышления.
Как все переменчиво! Шел дореволюционный студент по Москве и нес в себе целый мир. В мире этом рвались бомбы и опрокидывались кареты, залитые кровью сановных супостатов, взвивалось алое знамя над баррикадами, гремели выстрелы, позвякивали кандалы, пуржило над каторжной Владимиркой — дорогой в один конец, звучали «Варшавянка», «Гаудеамус» и «Быстры, как волны, дни нашей жизни», грешное, но милое создание усаживалось за швейную машинку, купленную вскладчину нищими благодетелями в потертых тужурках, Маркс спорил с Гегелем и клал его на лопатки, рвали душу больные строки умирающего Надсона, Шаляпин гремел «Дубинушкой», Рахманинов взвихрялся «Весенними водами», и не перечислить всего, что тревожило, будоражило, терзало, воспламеняло и поднимало на подвиг чистую, восторженную, наивную, глубокую и по-молодому глупую, но всегда героическую душу российского студента. А его сверстнику и коллеге эпохи зрелого социализма хотелось лишь наворовать кислых яблок в школьном саду и вознестись орлом над унитазом с оторванной крышкой в страшной, как ад, уборной студенческого общежития.
Читать дальше