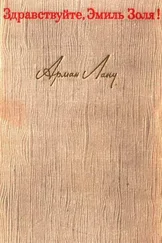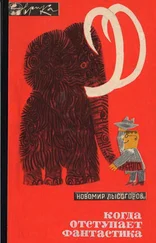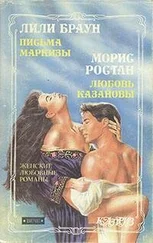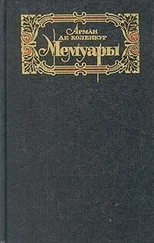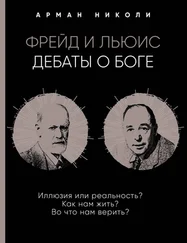Она приподнялась и взглянула на циферблат.
— Без двадцати одиннадцать! Ох, как поздно! Бедненький ты мой, сколько я тебя заставила ждать!
Абель облегченно вздохнул. Беранжера «отошла».
— Абель! Послушай, что я тебе скажу, так будет дело лучше. Я должна тебе объяснить. Я не женщина. Я — холостяк. Я всегда вела холостяцкий образ жизни. Ох, как у меня башка трещит!
Говорила она уже естественным тоном, но бледна была как полотно.
— Моя мать, Лоранса, умерла рано. Она так мне и не сказала, почему она жила одна и почему у меня не было отца. После ее смерти я и начала делать глупости. И сколько я их наделала! Но я никогда не доходила до безобразия, никогда! Спроси у Марты!
Марта являла собой воплощенное подтверждение! Свидетельство о благонравии и добродетельном образе жизни! Но бельмо на ее глазу и вкрадчивость жестов говорили не в пользу подзащитной. Пробили Вестминстерские часы.
— Вот видишь! Это на правду, — снова глядя на Абеля отупелыми глазами, сказала Беранжера. — Каждый раз, как я говорю тебе правду, бьют часы…
Слово «правда» задержалось в сознании Абеля. В его памяти всплыла странная фраза Малютки о Жаке: «Этот герой брюхатил жен французских пленных». Он еще не додумал до конца своей мысли, а уже начал расспрашивать.
— Это было в Воге. Как-нибудь потом я тебе расскажу. Сейчас у меня голова болит. Да и надоел ты мне со своим Жаком. Мне наплевать, наплевать…
— Тебе и на меня наплевать.
— Наплевать, наплевать, наплевать. Плевать, плевать, плевать, плевать.
От повторения слова обессмысливались, разбухали до нелепости, превращались во всепоглощающий поток лавы:
— Плевать, понимаешь? На все! Плевать, плевать, плевать…
— Выпей, Малютка, выпей, моя куколка! — сказала Марта. — И поспи — господин Абель тебя извинит.
— До завтра, — решительно проговорил Абель.
Беранжера слабо окликнула его, но, не дожидаясь ответа, опутанная всей гущиной своих волос, погрузилась в забытье. Абель спустился по лестнице и, выйдя из «Волн», пошел ощупью, точно слепой. С Ламанша тянуло йодом, и это был запах безнадежности.
У подножья крестовой горы молочно белое море покрылось гребнями. Беранжера, напорное, сейчас спала между голубками и белым слоном. Утром Абель уже по-иному воспринимал вчерашнюю сцену. Чувство жалостливой нежности наполняло его. Три гудка заставили его вскочить: Валерия! Ничего не скажешь — Валькирия точна! Она смерила его взглядом, и ему сразу стало не по себе. А между тем на нем была белая футболка и нежно-голубого цвета брюки.
— Ведите лучше вы, Абель.
В тесной машине противно пахло туалетной водой. Абель сморщился, открыл дефлектор и включил мотор. Валерия искоса поглядывала на неразговорчивого водителя. Там, где от Бени-сюр-Мер расходятся четыре дороги, Абель чуть было не въехал в кладбищенскую рощицу. Нет. Он поедет туда один. Когда они проезжали Кан, он замедлил ход около университета с его лужайками, абстрактной статуей, студентами, болтавшими у самого здания. Он поклонился оставшемуся от прежнего Воге собору св. Петра и, дыша первозданной свежестью лимонного утра, по улице Шестого июня спустился к Орну. На мосту через канализованную реку он резко затормозил, так что Валерия стукнулась о ветровое стекло. На мосту, однако, не было ни души.
Глазам парней, едущих на грузовиках, открывается печальный вид на окутанный белой пылью Кан. С покосившихся телеграфных столбов уныло свешиваются провода. К отслужившему «Тигру» притулился детский велосипед с погнутым передним колесом. Среди развалин, нестерпимо треща, прокладывает себе дорогу грейдер, над ним вихрем кружатся клочки бумаги. Над грудами обломков переговариваются между собой два монастыря — мужской и женский. Сегодня воскресенье. Из полуразрушенной лачужки, прижимая к иссохшей груди молитвенник, выходит старушка, вся в черном. Она старательно запирает дверь на ключ, хотя в пробоину могла бы войти лошадь. Канадцы окликают ее. Колокола звонят, над развалинами реет колокольный звон. Канские колокола! Ваш звон надрывает душу… Старушка находит в себе мужество улыбнуться. Грузовики гудят. Кан смердит смертью. А колокола звонят вовсю. Канадцы останавливаются. В церкви с пробитым куполом, через который видно вожделенное небо, служит хилый священник с некрасивым лицом. Канадцы поют; выговор у них грубый, как ряднина:
К оружью, канадцы! Равненье
На старое славное знамя,
Надежд наших символ живой,
И крикнем, склоняя колени:
«Да здравствует Франция! В бой!»
Читать дальше