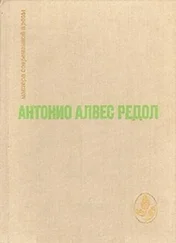— Я очень хотела избавиться от последнего… Но было поздно, я побоялась…
— Вот-вот… Как мне решать подобные дела?… После четвертого надо было остановиться. Вина-то твоя!
— Моя, синьор, моя. Вы все верно говорите, ваша милость… Но я пришла сказать… вот поэтому мой Тоиньо и плачет…я самого последнего… это девочка… подкинула этой ночью к двери приюта…
— Если это узнают, тебя арестуют.
— Ну и пусть, пусть все лучше, чем Тоиньо сделает еще одну… Я думаю он тронулся головой…
Только теперь Диого Релвас повернулся к ней и взглянул на нее в упор. Женщина была одета в черное,
— Кто у тебя умер?
— Никто… Нет-нет, никто. В трауре мы всегда…
Она разволновалась. Слезы навернулись на ее глаза, и она улыбнулась, словно слезы были не ее, а кого-то другого. Диого Релвас подошел к ней и принудил ее сесть.
— Не говори никому о том, что здесь было. Не говори, что со мной разговаривала. Как решить мне это дело? Сколько твоему старшему?
— Десять, ваша милость… Уже большой.
— Он в поле?
— Да, да, сеньор. Он с семи лет работает в поле…
— Тогда скажи мужу, чтобы больше его домой не брал. Он будет жить в поле. Я скажу управляющему, чтобы он подыскал ему постоянную работу помощника. А если есть еще семилетний или восьмилетний…
— Есть, мой Руй… Крестник барышни Эмилии Аделаиде…
— Пришли его сюда. Ну, а с четырьмя останешься в доме. Я скажу Таранте, чтобы тот определил его на конюшню.
Теперь уж женщина плакала безо всякого страха. И потянулась поцеловать его руку, но Диого Релвас уклонился, возможно из-за брезгливости.
— Оставь, пожалуйста, оставь. Иди…
И, не обращая на нее больше внимания, он широким шагом направился к двери. Потом обернулся:
— Молись за хозяина Антонио Лусио. Ты обязана ему, слышишь? Молись, мне это необходимо первый раз в жизни. Прощай!
Уже во дворе он кликнул Таранту и приказал подать экипаж. Он ехал в имение сына. Он торопился как можно скорее сменить дежурившего около него Мигела Жоана.
ЭМИЛИЯ АДЕЛАИДЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К СВОЕМУ ДНЕВНИКУ
После сделанной мною записи: «Я поняла, и совершенно ясно, как будто увидела воочию, что мне не под силу больше выносить этот тихий ад», — я над дневником не склонялась.
Слово я не подбирала и написала «не склонялась», вместо того чтобы написать «не притрагивалась» или «не заглядывала», только потому, что возвращение к дневнику действительно чем-то похоже на то, когда стоишь на балконе и, свесившись с него, смотришь на проходящих под ним людей, включая себя самое, и все кажутся тебе незнакомыми. И мы сами — очень странно — меньше всего на себя походим. Дети мои подросли, и мне уже двадцать восемь лет; восемь лет назад умер Руй, и в день его смерти я решила, что никогда больше не буду рядом с отцом, сердцем рядом. Но не знаю, есть ли что-нибудь на свете, что бы менялось так же, как я. Есть животные, которые меняют цвет только затем, чтобы стать незаметными. Я же меняюсь, похоже, по совсем противоположным соображениям, меняюсь, чтобы быть заметной для его глаза, оставаясь прежней во всем, кроме чувств. Может, чувства мои — те же краски?
Да, но я снова взялась за свой дневник совсем по другой причине. Я собиралась назвать его кладбищем моих иллюзий и могла бы в одно и то же время сказать, что он — зеркало, в которое я смотрюсь с детства, но в котором мое собственное отражение мне не нравится.
Почему мне так хочется исповедоваться этой бумаге, будучи почти уверенной, что завтра она, эта бумага, или, вернее, это зеркало, отразит другое лицо, которое не будет моим или которое мне будет неприятно видеть? Подобные мелочи меня выводят из равновесия, и я подчас не знаю, чего хочу, но это только когда пишу, потому что в жизни я всегда точно знаю, что меня интересует, никогда не отступаю, предвижу каждую мелочь, никто меня не смущает и я не испытываю стыда за то, что делаю. Но вчера, когда я увидела Его на похоронах Антонио,
бедный Антонио!
увидела, как достойно он держится, без единой слезинки, всем руководит, не забывает даже самую, казалось бы, пустяковую вещь, и потом, — когда в тот же вечер я шла за ним до Башни — Башни тайн моего детства, — слышала, как он кричал от боли, проклиная жизнь и смерть, вопрошая «за что», бросая вызов богу, наверное богу, я, я готова была упасть к его ногам и посвятить его во все, что со мной происходило и что я сделала сама за эти восемь лет вдовства, не знаю даже зачем: то ли для того, чтобы он меня осудил, то ли для того, чтобы простил и снял то наказание, которому сам же подверг.
Читать дальше