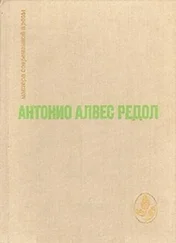— Отец, нам надо сфотографироваться всем вместе! Всем, пятерым!… Сделать большую фотографию, такую же, как я видела в chateau [ Замок (франц.) ] Кинтелас.
Диого Релвас закурил сигару, что делал очень редко, и пообещал пригласить для этого Тейшейру из Вила-Франки, он хороший фотограф, но Эмилия Аделаиде настояла на Бенолиеле из Лиссабона — он совсем другое дело, у него люди как живые, только что не говорят.
То же самое сказала Брижида и другие слуги, когда увидели сделанный им семейный портрет. Только тогда Диого Релвас счел, что труды и деньги, затраченные на фотографа, зря не пропали. Да, действительно, работа прекрасная, почти такая же тонкая, как портрет тети Риты Констансы, написанный каким-то художником. В тот год, когда был написан этот портрет, в их доме появился карлик, потому что тетя, увидев копию картины одного испанского художника, пришла в восторг от изображенного на полотне карлика и потребовала такого же, чтобы держать немецкую борзую, с которой она хотела позировать, сидя в костюме амазонки на ярко-рыжей лошади, которую подарил ей отец в пасхальное воскресенье. Сейчас не стоит рассказывать о предпринятых тогда мучительных поисках карлика, который подошел бы для портрета Риты Констансы. На это потребуется слишком много времени.
Но в результате портрет получился прелестный. Эмилия Аделаиде пожелала, чтобы отец был в костюме земледельца, хотя в таком случае он должен был держать в руке шляпу с жесткими полями, которая своей высокой тульей почти закрывала сидящего рядом сына. Фокмраф пытался наставлять их, говоря, что «художественная фотография имеет свои законы, так что будьте терпеливы, это я вам говорю, говорю как художник королевского дома». Однако даже этот пространный аргумент не принудил Эмилию сесть подле отца — в упрямстве никто не мог с ней сравниться, — ведь на Эмилии Аделаиде была надета роскошная плиссированная юбка цвета увядшей розы, сшитая как раз к этому случаю, и она могла помяться. Диого Релваса бесили все эти сложности. Он должен был пригласить парикмахера, чтобы тот побрил и постриг его, шить у портного андалузские панталоны и жакет, а теперь еще быть свидетелем всех этих сцен между дочерью и фотографом, который грозился уехать, ничего не сделав, хотя труд был уже оплачен. Надо иметь терпение святого! В любой другой день Диого Релвас выставил бы его вон в два счета, но не в этот, когда Эмилии Аделаиде исполнилось шестнадцать лет. И он сумел уладить это сложное дело, предложив компромисс: Эмилия Аделаиде будет стоять, а фотограф не поставит своего имени под портретом.
— Все, маэстро, решили — и дело с концом, — сказал Диого Релвас, садясь в предназначенное для него кресло, на другое взобрался десятилетний грустный Мигел, такой грустный, что даже фотография запечатлела застывшие в его глазах слезы. Ему нравилось стоять, согнув ногу, что он тут же доверительно сообщил отцу.
Эмилия Аделаиде расположилась между ними, хорошенькая, улыбающаяся, показывающая ряд чудесных зубов и ямочки на бледных щеках; рядом с Релвасом, вернее, за ним, напряженно держа голову, а руку на спинке кресла, встал франтоватый Антонио Лусио в новой куртке и кордовской шляпе, собственноручно им выбранной; у ног отца, приклонив голову в локонах на его колени, села счастливая, как никто другой, Мария до Пилар.
При чем тут этот портрет? — спросит читатель, зная озабоченность Диого Релваса и пережитую драму старшей дочери.
Да при том, что Мария до Пилар, указывая на эту самую фотографию, которая висит в одном из залов первого этажа, в том, что считается музыкальным (там стояли арфа и клавесин, к которым девочки почти не притрагивались, обе пошли в отца — ни у той, ни у другой слуха не было), говорила своим братьям:
— Вот все мы пятеро — близкие друг другу люди, и я вас спрашиваю, так же как отец; а любим ли мы один другого? Папа любит, он единственный, кто любит нас всех. Хотя вы и говорите, что он меня любит больше. Может, потому, что я меньше его огорчаю…
— Это мы еще посмотрим, — ворчливо ответил четырнадцатилетний Мигел Жоан. — Девчонка в твоем возрасте не должна быть такой рассудительной.
— А она у нас всезнайка! — объяснил Мигелу Жоану Антонио Лусио.
Смуглую, не по возрасту высокую Марию до Пилар красили большие табачного цвета глаза и белокурые, как у матери, а может, чуть темнее, чем у матери, волосы; временами, особенно в солнечные дни, глаза ее делались зеленоватыми и более живыми, но менее нежными; нос был с небольшой горбинкой, с очень выразительными и чувственными крыльями и такие же чувственные были четко очерченные, чуточку полноватые губы. «Еще оформляется», — говорила Брижида, особенно привязанная к девочке, никогда не знавшей матери, что как раз и было причиной антипатии к той же Марии до Пилар ее брата Антонио Лусио, избалованного Марией Жоаной Вильяверде. Для него Мария до Пилар была виновницей смерти матери. И именно поэтому он частенько затыкал ей рот. Он играл в очко, а потому всегда носил в кармане брюк колоду карт, подаренную ему одним пастухом, который научил его этой азартной игре. Это был порок.
Читать дальше