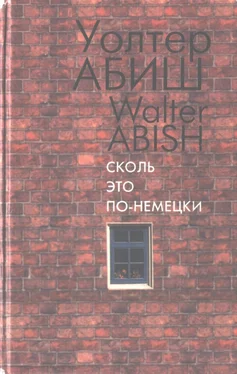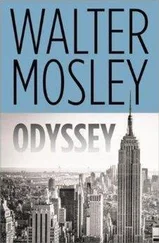(13) Любитель и знаток фотографии и кино, Абиш охотно ссылается на поверхностность своих текстов. Подчеркнуто языковая стратегия письма отнюдь не противоречит своеобразной кинематографичности его прозы; мы словно смотрим на мир через объектив кинокамеры, использующей для изображения вместо стихии света стихию слова, и эта смешанная стратегия при всей своей кажущейся парадоксальности («говорить — совсем не то, что видеть» — Морис Бланшо) сулит совершенно неожиданные достижения. Поверхность, являющаяся, согласно Делезу, вотчиной смысла, противопоставляется Абишем манящим неизвестно куда поискам глубины — мудрости и понимания. Только через поверхность можем мы воспринять непривычное и свыкнуться с ним — отсюда, в частности, и повторяющийся мотив раскраски как поверхностного посредника в общении с объемным, объемлющим в своей непривычности, миром.
(5) Да, нет ничего соблазнительнее сулящей освоение непривычного поверхности. Больше всего смыслов рождается именно из соприкосновения, из легкого и игривого касания, и Абиш, которого «на самом деле не занимает язык, а… в основном занимает смысл», никогда не проникает за событийную поверхность, а скользит по ее пленке. С этим связана и полная замкнутость, парменидовская шарообразность взыскующего совершенства мира Абиша, зовется ли он Америкой или Германией: здесь просто невозможно помыслить о каком-либо хайдеггеровском экстазе. Подчеркивается это, в частности, изобилием сексуальных (при отсутствии эротических) сцен, за которое ему подчас пеняют ревнители морали; ведь пол — та точка, где естественнее всего ждать хоть какого-то экстаза, «в постели хочешь, ждешь, жаждешь кроме совершенства чего-то еще». Но в мире Абиша женщины — лишь сексуальные образы образов желания, в экономике которого они и функционируют на уровне кредитных карт.
(2) Было бы слишком просто бездумно приписывать творчество Абиша к расплывчатому континенту постмодернизма, хотя все критики, конечно же, дружно сходятся в том, что именно по этому ведомству оно и проходит. На самом деле Абиш в первую очередь связан с постмодернизмом тем, что он — пусть и без вопросительных знаков — ставит под вопрос сами его постулаты и выводы (которые, надо сказать, порой неотличимы друг от друга). К примеру, такой: мир состоит из случайных, произвольно связанных меж собой элементов. Или: любая попытка отыскать в нем смысл привносит в него вымысел. Или: текст в конечном счете отсылает сам к себе и, по сути дела, не связан с внешним миром. Именно логически выправленная (безопасная ли?) бритва иронического, то есть сомневающегося в собственной непогрешимости, анализа и является основным инструментом Абиша. «Аналитический постмодернизм»?
(26) Шумный успех «Сколь это по-немецки», второго, а если вспомнить об экстравагантной форме «Азбучной Африки», то, по сути, первого романа писателя, обострил внимание критики к его творчеству и вызвал волну критических откликов. Основной массив первых отзывов ставил своей целью «довести» почти реалистический роман Абиша до полного — привычного — реализма; немудрено, что в первую очередь критическая братия экзальтированно восхищалась мастерством (?) писателя, так точно описавшего страну, в которой он ни разу не был, хотя на самом деле преследуемую им демифологизацию коллективных представлений много легче осуществить именно на таком, уже по-своему остраненном материале. Слово «демифологизация» появляется здесь не случайно: если в предыдущих книгах Абиш занимался остранением в области семиотики языка (его занимали отношения между означаемым и означающим, сами механизмы означивания и референции), то в романе он подходит с той же программой к социальным и культурным структурам: от языковой семиотики он переходит к семиотике культурной. Теперь он остраняет не столько язык, определяющий его повествование, сколько те культурные структуры, которыми определены — и определяют себя — в повествовании его персонажи. Тем самым эта книга вторит по своей интенции знаменитым «Мифологиям» Ролана Барта; особенно бросается это в глаза в отношении «вставного» сюжета, анализа Абишем обложки журнала «Тrеие» с фотографией Гизелы и Эгона.
(19) С «реализмом» повествования тесно смыкается предельно точный описательный тон романа, целью которого вроде бы является представить изображаемый в романе мир естественным, показать, что на его счет не может быть разных мнений. Посему так много выражений вроде «ясно», «наверняка», «конечно» или «несомненно» — особенно на первых страницах, сразу показывающих, что мы находимся в привычном мире, где все дороги ведут туда, куда и должны вести. Но в то же время эта подчеркнутая, чуть ли не навязчивая точность порождает и обратный эффект остранения, ибо нам, ведомым нарративным голосом, невольно приходится останавливаться на тех моментах, которые обычно — в силу их полной привычности — остаются за кадром нашего внимания; нам теперь нужно осмыслить, далеко ли распространяется сфера привычного уже в нашем собственном обустройстве бытия.
Читать дальше