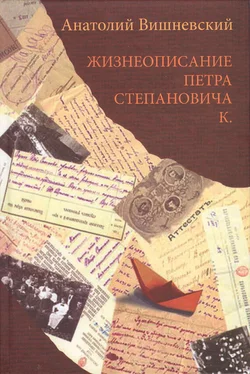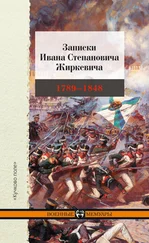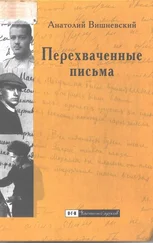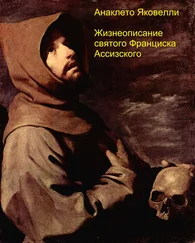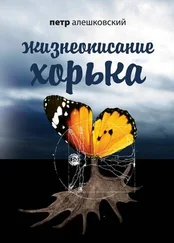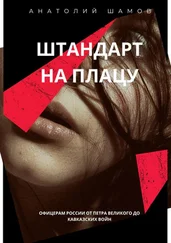Лети, отроки и даже юноши совсем не задумываются или мало задумываются над вопросами цели и смысла жизни, мысли об этом чаще приходят уже в стариковском возрасте. Некоторые пенсионеры, оформившись на пенсию, говорят: «В собесе записали в очередь на тот свет». В стариковском возрасте люди часто остаются в одиночестве: дети устроились и разъехались по работам. Это еще ничего, если живы старик и старуха, но в таком возрасте очень часто он или она остаются без своей пары, и тогда чаще всего приходят мысли о конце жизни. Здесь уже нужно к этому вопросу относиться старикам по-философски. Смерть – неизбежный факт для каждого из нас, и приходится (где же заденешься!) быть «философом ленивым», чтобы хоть немного «уравновесить» свои горькие мысли. Раз ты родился, так не вешаться же из-за того, что рано или поздно умрешь!
Лев Толстой мыслил метафизически и «домыслился» до такой наивности. «Доказательство бессмертия души есть существование. Все умирают, скажут мне. Нет, все изменяется, эти изменения мы называем смертью, но ничего не исчезает. Сущность всякого существа – материя – остается. Проведем параллель с душою. Сущность души есть самосознание. Душа может измениться со смертью, но самосознание, т. е. душа, не умрет». Удивляешься, что Толстой так примитивно и наивно «философствовал».
Душа – это мерка, выработанная религиями в целях «измерения» и определения качеств человеческих поступков. Умирает человек – прекращаются и все его взаимоотношения с людьми, с которыми он, будучи живым, находился в тесных деловых связях в целях обоюдных выгод. Если принять во внимание, что каждый человек – не только в своем облике, ной в поведении, в поступках – имеет «свой почерк», то возникает необходимость сравнивать взаимоотношения людей друг с другом, и естественно, что появилась в народе мерка, которую назвали душой: добрая душа, человек без души, черствая душа, мелкая душонка и т. п.
Религии, пользуясь наивностью людей, постепенно человека и его существо «раздвоили»: тело само собою, а душа – сама собою. Если человек умирает, то душа будто бы покидает тело, куда-то там возносится и предстает перед богом (или перед богами), чтобы ответить за поведение и поступки тела, в котором душа пребывала в качестве не то коменданта, не то полновластного хозяина. Да никуда она не улетает, ни перед кем отчитываться не будет, ибо нечему там было улетать! Душа беспредметна, нематериальна, умер человек – умерло его поведение, умерла мораль, т. е. его душа.
В грамматике есть слова, относящиеся к именам существительным, которые, собственно говоря, являются прилагательными, так как они определяют, скорее, качество, нежели существо: душа, талант, красота, неприязнь, строгость, ум, пошлость… Если вы умерли, то лопата, лошадь, стол, очки, которые вам принадлежали, остаются, чем и были. А душа, талант, красота, пошлость – уходят вместе с вами, так как, хотя они и называются именами существительными, но они – имена символические. А в общем, не стоит забираться в дебри филологии, а то еще и не выпутаешься.
Извините, что мы так долго цитировали, но мысли же интереснейшие!
Петр Степанович не зря много размышлял в своем трактате о смысле жизни – и глубоко размышлял, правильно размышлял, в диалектическом ключе, а не в метафизическом, как Лев Толстой. Поэтому он пришел и к правильным выводам. Как истинный натурфилософ он понимал: чтобы ответить на вопрос о цели жизни, надо все-таки иметь, как он писал, если не понятие, то хотя бы представление о жизни вообще. Правда, сейчас, – не скрывал Петр Степанович, – в высших учебных заведениях и в техникумах проходят диалектический материализм, так что можно о нем иметь представления довольно солидные. Но чтобы получить понятие о жизни флоры и фауны (мы снова цитируем), – то здесь уже нельзя ограничиться только диалектическим материализмом, а надо окунуться в физико-химические науки, сдобренные анатомиями, физиологиями и другими биологическими дисциплинами. Ведь только тогда можно говорить о Цели Жизни Человека, когда вы будете понимать существо жизни, то есть изучите материю, из которой возникли живые существа флоры и фауны.
Не иначе, как изучение флоры и фауны заставило Петра Степановича в корне пересмотреть свое прежнее миросозерцание, с каковым мы имели счастливую возможность ознакомиться в первой части нашего повествования, и связать смысл жизни с достижением «я» человеческого сознания, мышления, памяти и воли в расцвете прогрессивного развития. Флора и фауна подсказали и наилучшие политические формы, приближающие нас к желанному «апогею», хотя воспользоваться ими мы, пожалуй что, еще не вполне готовы. Получили развитие и его мысли о Всемирном правительстве.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу