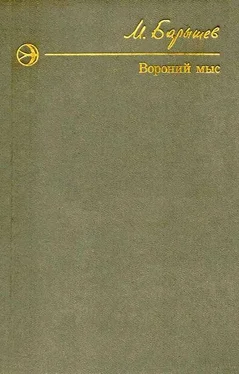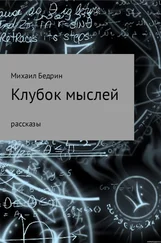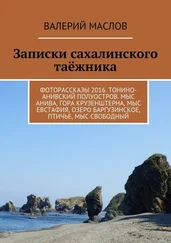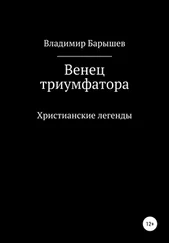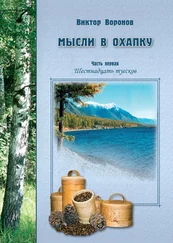Я высыпал на стол все, что было выдано старшиной на трех человек. Сухари, кусок сала, пачки горохового концентрата, три банки тушенки, чай, комбижир и соль.
— Вот, берите… Все берите! Мне ничего не надо.
— Как не надо?.. Живому человеку все надо.
Женщина вскинула на меня глаза, и в них я увидел несмелую благодарность.
Затем она сказала, что ее зовут Настасьей, взяла из жестянки щепоть соли, бережливо посыпала ею горбушку, отломила кусок девочке и стала жадно и трудно жевать.
На другой день Настасья прибралась в избе. Смела в углах и на потолке бахрому паутины, выскоблила с песком заслеженный пол и кипятком ошпарила стены.
Осмелела и Шура, уже не вздрагивала, когда я заговаривал с ней. Чаще всего, уединившись в полутемном закутке за печкой, она молчаливо и сосредоточенно перебирала лоскутки, заворачивала в них камешки, пуговицы и щепки, укладывая свертки в полосатый мешок с лямками.
— Во что же ты играешь?
— В беженцев. Скоро герман на машине приедет, надо в лес убегать. В лес герман боится ходить… Холодно там, дяденька, хлебушка нет и кругом лягушки. Страшные-престрашные… В беженцев играю.
В ту пору мне было неполных двадцать лет, и я по себе хорошо помнил, во что полагается играть такой мелюзге. Разыскав на задворках подходящую деревяшку, я часа два просидел над ней и ножом вырезал, как умел, куклу. Химическим карандашом нарисовал глаза с фиолетовыми точками зрачков, вывел дужками брови и рот сердечком. Помусолив палец о трухлявый кирпич, положил на деревянные щеку охряной румянец.
Когда я преподнес Шуре свое творение, она глубоко вздохнула и уставилась на меня распахнутыми глазами, удивленными, радостными и боязливыми, не веря столь роскошному подарку.
— Это тебе, — разволновавшись вдруг не меньше, чем Шура, сказал я. — Кукла. Ее Машей звать… Бери, играть будешь…
Шура решилась. Выхватила из моих рук подарок и умчалась во двор.
Настасья привела ее в избу и заставила сказать спасибо.
— У самого-то ребятишки есть?
— Что вы, откуда они у меня. Я еще холостой.
— Ждешь, когда война кончится? А вдруг убьют тебя, парень… На такой войне живому остаться мудреное дело.
— Может, и не убьют.
Склонив к плечу голову, Настасья пристально, словно высматривая что-то нужное ей, глядела на меня. Густые ресницы, почти скрывавшие белки, делали глаза ее темными, отчетливо выделяя точки влажных зрачков.
Стесняясь под непривычным женским взглядом, я вдруг сообразил, что совсем еще не старая моя хозяйка с изможденным лицом и жилистой тонкой шеей.
— На войне ничего нельзя про запас откладывать. Ближняя солома сейчас лучше дальнего сенца… Когда еще кончится эта распроклятая погибель?
— Кончится… И жизнь останется, и люди будут по земле ходить.
— Кто будет ходить, а кому на карачках ползать, — невесело усмехнулась хозяйка.
С первого же дня, как появилась в избе Настасья с дочкой, жизнь моя стала веселее. Исчезло чувство заброшенности, и ночные страхи отступили, потому что рядом были люди.
Зарева пожаров уходили все дальше на запад, и реже летали самолеты. По этим приметам я вернее сводок Информбюро знал, что наступление продолжается, и втайне стал опасаться, как бы в стремительном марше начальство не махнуло рукой на одинокого сержанта, приставленного к груде не очень, видать, нужного теперь полку имущества.
Настасья устроила себе и дочке баню в корыте и сменила шершавый платок на легкую косынку. Лицо ее стало оживать, походка обрела упругость и на щеках выдавился первый румянец. С утра до позднего вечера она с жадной торопливостью возилась по хозяйству. Собирала, где только можно, по крохам и осколочкам все, что могло пригодиться для жизни, не брезгуя горелыми гвоздями и обрывками цветастых немецких кабелей. Копала на беспризорных, забитых сорняками огородах картошку, носила из лесу маслята и сыроежки, крепенькие боровички и переспелую чернику.
Сам по себе у нас сложился общий котел. Мои солдатские припасы через неделю кончились. Но мне посчастливилось найти в разрушенном сарае три ящика немецких гранат с длинными деревянными ручками, и я глушил рыбу в речных омутах. Чаще всего добывал мелочь— окуньков, плотвичек, колючих головастых ершей.
Однажды я прошел вверх по реке к сожженной мельнице, где сохранялись остатки запруды. Берега здесь круто уходили в глубину и частоколом торчали гнилые, темные сваи.
Я соорудил связку из гранат и кинул поближе к сваям. Ахнуло так, что вода на мгновение вздыбилась стеной, обнажив илистое дно, и тут же с шумом сомкнулась, окатив меня с головы до ног. Чертыхнувшись, я вытер лицо и увидел, что возле свай плавает невесть откуда появившееся бревно. «Бревно» безвольно шевельнулось. Это был матерый сом. Усатый, осклизло-зеленый, с плоской головой и беспомощно разинутым ртом. Я кинулся в воду и выволок добычу на берег. В соме было пуда полтора.
Читать дальше