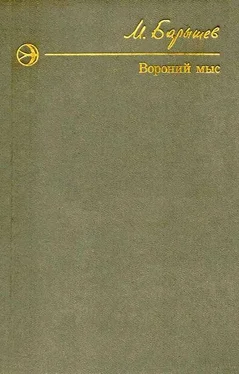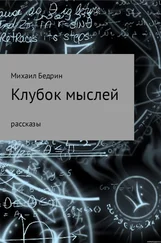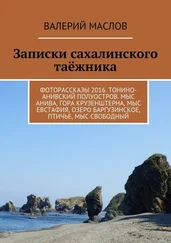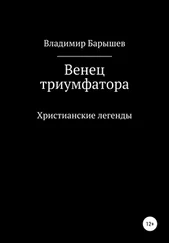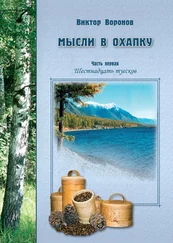Были обомшелые стены древних монастырских построек. За ними хоронились от жалостливой и потому обидной человеческой доброты те, кого особенно тяжко искалечила война. Об этом говорили шепотом и вдоль стен шли тихо, неодобрительно оглядываясь, когда под ногами у кого-нибудь хрустел сучок.
Баба Варушка семенила рядом с Натальей Александровной, вздыхала и шептала что-то про себя.
Вечером, когда Даня снова вертелась возле зеркала, перед тем как уйти на палубу, баба Варушка грустновато приподняла отбеленные временем брови и сказала:
— Мой нонешний мужик с войны тоже сильно увечный пришел. Три года воевал, не царапнуло, а на четвертом, когда проклятого лиха всего один месяц оставался, оторвало ему бомбой обе ноженьки…
Даня вздрогнула и отложила в сторону цветастый тюбик польской губной помады.
— Вот какая, девушки, беда мне на верхосытку привалила. Покалечила проклятая война Федора моего Степановича. Правую ногу ему сразу отмахнуло по самый пах, а вторую доктора в медсанбате отчикали. Кости в ней были все раздроблены. В другое время так, может, и сохранили левую ногу, а тогда, Федор сказывал, горячка была у докторов. Навалом мы, грит, после боя в санбате лежали. Начали бы с моей ногой по всем правилам возиться, может, пять, а то и поболе человек за это время души отдали. Это он теперь рассуждает, чтобы себя утешить. А наверно, так и было дело…
Наталья Александровна кивнула, вспомнив заваленную ранеными операционную палатку на Сермягских болотах, небритого, седого от усталости хирурга Кострецова, его забрызганный, разорванный возле кармана халат, механические движения рук и те жесткие десять минут, которые он мог отвести каждому раненому. Их становилось все больше и больше. Они стонали, матерились, лежали безусые на лапнике, на носилках, на плащ-палатках. Им нужен был врач, а сутки назад при обстреле убило второго хирурга.
— Усыпили моего Феденьку. А когда, говорит, оклемался я, Варвара, от меня всего половина осталась…
Даня растопыренными пальцами нащупала койку и осторожно присела рядом с бабой Варушкой.
— Дак ведь по порядку надо сказывать, — спохватилась баба Варушка, — а я вам с середины завела. За Федора я в третий раз-то замуж и вышла. До войны дело было. По соседству мы с ним проживали. Федор в колхозе бригадиром по полеводству работал, а я на ферме дояркой. Жена у него в ту пору умерла, Надежда. Трое мал мала меньше на руках у мужика остались. Полгода маялся он со своей командой, потом пришел ко мне, поллитровку красного вина принес и сказал: «Давай, Варвара, в одну упряжку впряжемся. Троих твоих, да троих моих в кучу смешаем». А чего их смешивать, когда они по соседству, считай, и так давно смешались. В общем, договорились мы с Федором по-хорошему. Человек он самостоятельный, работящий, грубых слов и прочего никогда не употреблял. А только сказать вам, девушки, как на духу, — пожалела я его, и только. Не лежала к нему душа, как к Ивану. Бабье нутро ведь и колом не перевернешь. Первого я любила, Иванушку моего, единое мое красное солнышко…
«Единое мое красное солнышко», — мысленно повторила Наталья Александровна слова морщинистой бабы Варушки, сказанные дрогнувшим от волнения голосом, в котором выплеснулось давнее, светлое и незабытое.
— В войну на баб тягота навалилась несусветимая. Теперь дак и вспоминать не хочется. Федора взяли по мобилизации, и осталась я одна с шестерыми ребятишками. Августа уже в колхозе подрабатывала, а остальные только умели есть-пить спрашивать. Коровенкой мы спасались, всей компанией ей корм добывали. Где канаву у дороги обкосишь, где в бочаги забредешь и охапку-другую осоки добудешь, где отавы ухватишь. И все на своем горбу в дом. По трудодням в войну мало что доставалось. Пластаешься на работе, чтобы бригадир поболе палочек записал, а расчет подойдет, по тем палочкам получать нечего. В избе холодно, куржава в каждом углу, а в печи одна варя — картошка да кислые капустные листья. Когда колхозную капусту сдавали, правление мне навстречу шло. Ставили меня, как многодетну, с капустных кочанов верхние листья обрывать. Теми листьями мы с ребятишками на зиму и запасались. Упаришь их, бывало, в чугунке, молоком забелишь, и опять еда, коль брюхо просит… Федор с войны часто письма писал. Получишь весточку — и вроде легче делается. В хороших-то словах люди крепчают. Это я, девушки, по себе много раз примечала.
Баба Варушка вдруг замолчала, задумалась. По лицу ее мимолетно пробежала какая-то сокровенная дума и растаяла, оставив в уголках сухих губ скорбные морщинки.
Читать дальше