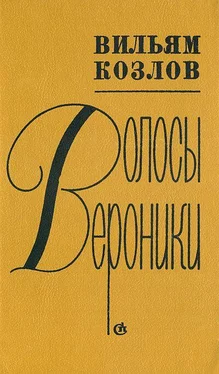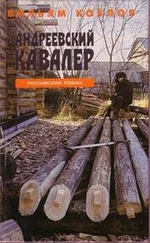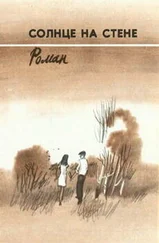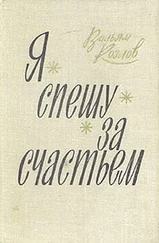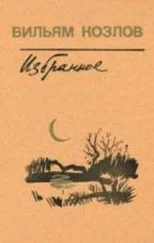— Стоять будет,— повторил я.
— Звери в лесу уживаются, а люди на земле никак поладить не могут. Неужели так и будет всю жизнь? — Он неожиданно переключился на другое: — Тут у нас в одном рабочем поселке такой случай произошел: два паренька взяли с пастбища стреноженного коня, загнали чуть ли не до смерти, а потом привязали к дереву и стали над ним измываться, били прутьями, выкололи глаз и бросили привязанного в глухом лесу. Так конь и издох. Откуда в людях такая жестокость, да еще к беззащитной скотине?
— А как эти негодяи объясняют свой гнусный поступок?
— Нынче убил кошку или собаку, а завтра убьет человека,— продолжал дядя Федор.— Ни одна божья тварь ради удовольствия не убьет другую. Уж на что лев или тигр свиреп, сам видел по телевизору «В мире животных», как вокруг его лежбища мирно пасутся косули и лани. Лев сыт, и они его не боятся, знают, что не тронет без нужды.
— Чему я удивляюсь, мужики к хозяйству больно уж равнодушные стали,— говорил дядя Федор.— Земля у нас хорошо родит, у каждого корова, поросята, куры. Озеро под боком, а в деревне не держат ни уток, ни гусей. Да и сады убогие: яблоньки, сливы, смородина. Пчел, кроме меня, держит Никифор, и более никто. Ничего на продажу не производят. Ну, дачники покупают молоко, а сметану, яйца, курятину не продают. В огороде картошка, на грядках огурцы, свекла, капуста, морковка, пожалуй и все. А ведь можно широко сейчас развернуть подсобное хозяйство. Для этого все условия предоставлены, так нет, не хотят! Зато выпить только дай! В магазине спиртного нет — самогону наварят. Я думаю, кто пьет, у того никакого желания нет заниматься хозяйством. Да и вообще ничем. И на работе-то от алкоголика проку никакого. Он и там мечтает о бутылке.
— А сам-то? — взглянул я на дядю.
— Когда это было! — усмехнулся он.— Не спорю, сильно закладывал, особенно после смерти сына моего Алексея… По себе знаю, что никакого интересу к жизни тогда я не испытывал. День-ночь — сутки прочь. Так и жил… Вернее, существовал, жизнь-то, она мимо летела, не задевая меня. Жизнь от пустых, бесполезных людей отворачивается… Это как вышел ты на глухом разъезде, а поезд умчался дальше. И все про тебя забыли, потому как ты был досадным балластом для людей. Про пьяниц быстро забывают, а хороших людей в народе долго помнят. Взял я и бросил пить-то. Без этих докторов и принудиловки. Сам поставил точку. Ну, понятно, жена помогла… Не она, кто знает, что было бы?.. И что ты думаешь? Корю сейчас себя на чем свет стоит: зачем себя травил проклятым зельем? Столько хорошего кругом не замечал. Глянь, какая благодать! А с похмелья и глаза-то на свет божий не смотрят. Что тебе вёдро, что ненастье — все в одном сером цвете. Лишь бы поскорее добраться до проклятой бутылки и нырнуть в дурман и кладбищенскую пустоту… Ни ты людям не нужен, ни они — тебе. Один у тебя царь и бог — бутылка. За нее, проклятую, готов душу дьяволу продать, да вот беда — и нечистая сила от горьких пьяниц отворачивается… Эх, говорить, Георгий, об этом не хочется! Не много я пил, наверное с год, а оскомина до сих пор осталась. Теперь даже с баньки не принимаю эту заразу, противно. И глаза бы не смотрели, как мужики в праздники нагрузятся и шатаются по деревне. До хозяйствования ли им? Видел, какие избы у некоторых? Одна покосилась, у другой крыша протекает, а мой сосед уж который год не может хлев достроить. Половину крыши шифером покрыл, а до остального руки не доходят. Зато самогон в бане не забывает гнать…
Мой поплавок стремительно пошел в глубину, я подсек и почувствовал приятную тяжесть. Здесь уж если брал окунь, то крупный. Мелкие жировали на чистой воде. Я стал осторожно подводить добычу к лодке. Дядя Федор косил взглядом на мой поплавок и помалкивал. Он не любил под горячую руку давать советы.
Окунь тяжело ворочался где-то на глубине и неохотно шел к лодке. Один раз он взбулькнул у осклизлого ствола и стремительно, словно испугавшись солнечного света, снова ушел в глубину. И будто стал на якорь. Сколько я ни дергал удочкой — окунь ни с места. Я уже понял, что он запутал леску в корягах, но упрямо дергал и дергал, пока она, тоненько тренькнув, не оборвалась.
— Они тут ушлые,— заметил дядя Федор.— Чуть что, сразу в корягу норовят. Знают, что оттуда их не возьмешь. Надо было, Георгий, его на ту вон проплешину у лопушин выводить.
Я молча заменил на удочке жилку, переставил поплавок из гусиного пера, привязал свинцовое грузило, крючок. На голове у меня шапочка с целлулоидным козырьком, я в одних трусах. Солнце припекает плечи, грудь. Я уже успел прилично загореть. Вторую неделю живу в Кукино. И нравится. Утром часа два-три загораю с книжкой на лужке. Когда солнце припечет грудь, я переворачиваюсь на живот. Дядя Федор без маски и дымокура возится у ульев. Пчелы его знают и не кусают, а если какая и ужалит, так он к этому привычный. А я первое время ходил с большущими желваками то на щеке, то на шее. Очень уж мне было любопытно наблюдать за пчелиным житьем-бытьем.
Читать дальше