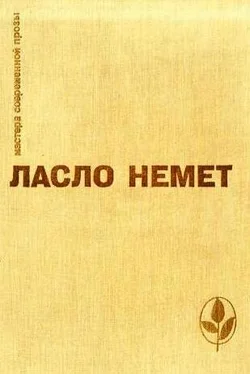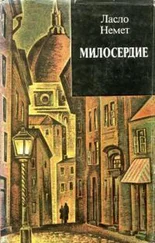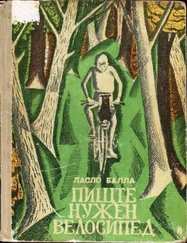— Со мной пусть и не заговаривают про это, — отозвалась Жофи, обирая с пеларгонии увядшие лепестки. — Сама не понимаю, как это у меня вылетело. Не только к мужчине, к ребенку и то не могла бы я больше привыкнуть. Да я полюбить-то его не посмела бы, все боялась бы, что однажды и он будет вот так же лежать на кровати, как Шаника мой в последнюю ночь. — Внезапно она выпрямилась и посмотрела на Кизелу, сгорбившуюся у цементной ограды соседней могилы. — Этого я еще никому не рассказывала… В ту ночь, помните, я не с ним легла, а на своей кровати. Вдруг он как заплачет, бедненький: «Мама, возьми меня к себе, я боюсь». Грудь ему уже сдавило, вот и стало страшно. И, хотите верьте, хотите нет, я не взяла. Я тоже его боялась. Ведь он уж и не человеком стал совсем. Вот рожаешь ребенка — а к чему? Чтобы он потом разлагаться начал у тебя на глазах? Чтобы не посметь на руки взять его, когда он помощи просит!
— Ему уж безразлично было, поверьте, возьмете вы его на руки или нет, — отозвалась Кизела, ниже опуская голову, чтобы Жофи не могла читать по ее лицу.
— Так-то оно так, а все-таки, — задумчиво произнесла Жофи, и застывшие черты ее немного смягчились. — Нет, хорошо, что рассказала, хоть и стыдно.
На обратном пути Кизела на минутку заглянула к сестре. Она слышала, что муж племянницы Кати опять наделал долгов, и хотела предупредить ее мать. Пордан как раз загоняла кур; она не успокоилась до тех пор, пока не вошла и Жофи.
— Мне все равно нужно посплетничать, — говорила она, идя к воротам им навстречу, — к тому ж и просили меня, так что расскажу непременно! — И она с громким смехом втянула Жофи во двор.
Девочка-служанка вынесла стулья, и они сели на галерее. С пастбища возвращалось стадо свиней; семеня быстрыми ножками, пробегали поросята следом за взрослыми свиньями; от свинарников, почти скрытых кустами бузины, донесся короткий визг подсвинка — верно, защемил и тут же выпростал ножку. Из конюшни, величественно ступая, вышли лошади. Все они были вороные, все разом опустили гибкие шеи к колоде, потом оглядели затихший двор и неторопливо вернулись в темную конюшню. Пордан украдкой посмотрела на одетую в траур Жофи. Люди твердят, что она чуть жива от горя. Всем бы так горевать: правда, побледнела слегка, но ей и бледность только к лицу.
— Вчера я заходила к тебе, но сестра твоя сказала, что ты все на кладбище пропадаешь. Мать из-за тебя слезами обливается, загубишь ты себя, говорит, все кладбище да кладбище. Так причитает, словно не сегодня-завтра и ты туда угодишь. А ты — смотрите-ка! — еще краше стала, чем была! Только интересней глядишь из-за бледности своей. Вот бы и моей Кати такой бледной да красивой стать от горя! Но она все ревет, нос стал красный, даже когда не плачет, а по лицу пятна темные пошли. Думала уж, оно самое. Так нет, муж-то и не глядит на нее. От одной только горести…
В голосе Пордан подспудно звучала вражда, сквозь шутливые намеки слышалась ненависть — Жофи даже растерялась. Что ей нужно, какое ей дело до ее бледности? Если кожа белая, значит, и горе уж не настоящее?! Кизела тоже уловила враждебный тон и раз-другой оборвала сестру:
— Красавица от горя только красивей становится, а дурнушка — еще безобразнее.
Кизела не выносила Кати и охотно прохаживалась на ее счет при всяком случае — не только сейчас, ради того, чтобы доказать дружбу к Жофи. Пордан с виду не обиделась. Она и сама честила свою дочь почем зря, однако другим этого не прощала.
— Вот это верно, — захохотала она. — Да из-за тебя сейчас мужчины еще больше с ума сходят, чем когда в девушках была. — И она с веселой злостью засмеялась Жофи в лицо.
— Из-за меня?
— У Панни всегда какая-нибудь дурь на уме, — пробормотала Кизела, злясь, что сестра за одну минуту разрушила здание, стоившее ей целого дня угодничества.
— Не рассказывать? Чтобы мне потом глаза кололи, будто я из зависти ничего тебе не говорила? Но что же мне делать-то, ежели он как репей пристал! Чуть я за порог, а он уж кричит через забор: «Эх, тетя Пордан, коровка у вас больно хороша, сколько ж она молока дает?..» А кончается все на Жофи Куратор.
— Как же, именно за него и пойдет Жофи, за этого сынка батрацкого, без головы она совсем! — вышла из себя Кизела. — Ты бы лучше о том позаботилась, чтобы зять твой дом не пропил, дочку твою без крова не оставил! Опять он задолжал в корчме всем и каждому.
— Свой дом пропивает, не твой, — огрызнулась Пордан, но все-таки притихла и, пока Кизела рассказывала подробнее свою новость, начисто позабыла о том воздыхателе, который сперва расхваливает ее коров, а кончает расспросами о Жофи.
Читать дальше