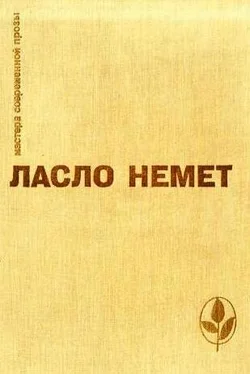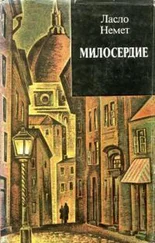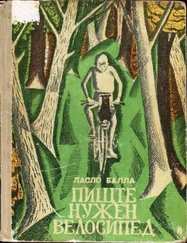— Пришла. Шанику и старика моего навестить, — с хитрой ухмылкой отвечала Жужа, и видно было, как она горда, что помянула и про Шанику: для крохотного ее умишка это была великая хитрость.
— Все не можешь позабыть своего старичка?
— Как же забыть, он добрый был ко мне, такого больше не будет, — повторяла Жужа слова, слышанные столько раз на чужих похоронах; однако морщинистое ее личико так и светилось от оказанной ей чести.
— Наверное, плохо твоему старику там, в земле?
— Нет, ничего, я ему подушку подложила под голову.
— Но ведь голодный он, Жужа, — с усилием улыбалась Жофи и поглядывала на Кизелу. — Подумай, сколько уж он не ел, не пил. Лет семь минуло, как он умер?
— Нет, он ел. Я приносила ему. И сейчас принесла супцу немного да чечевичной похлебки. Вот!
Жофи подошла и заглянула в раскрытую ветхую котомку, которую Жужа раскопала где-то среди мусора.
— И что же, съест это Комароми? — спросила Жофи.
— А как же. У него здесь есть жестяная миска, так к моему приходу она всегда пустая.
— Нельзя бы позволять этого, только собак сюда привадит, — вставила Кизела, злясь, что Жуже достается столько ласки. — А они потом рыться начнут.
Но Жофи нравилось говорить про то, как Комароми съедает чечевичную похлебку.
— До последней чечевичинки съедает, и еще миску оближет, да? — проговорила она, и из груди ее вырвался странный надломленный смех, такой чуждый сияющему небу и улыбчатым розам. — По крайней мере бедняжка радуется, что приносит еду старику своему. Пусть и не видит, да хотя бы кормит, — добавила она, сразу помрачнев.
И Кизела, взглянув ей в лицо, опять усомнилась в том, что у трактирщика есть надежда на успех.
Так подошла и троица. У Кизелы давно уж было решено к этому дню поговорить с Жофи напрямик, попросить ее поддержки. Она хотела завести разговор еще в субботу, но вдруг почтмейстерша объявила, что после обеда придет посидеть к ней. Почтмейстерша первый раз собралась к Кизеле — да так и не пришла, — но кладбище Кизела из-за нее пропустила. А под вечер прикатил на велосипеде Имре. Жофи, вернувшись с кладбища, задержалась с ними лишь на минуту и тут же пожаловалась, что болит голова, поэтому она ляжет пораньше. Таким образом, решающий разговор Кизеле пришлось отложить на воскресенье. Наутро Жофи вышла на кухню в хорошем расположении духа. Имре и его мать как раз пили кофе. Кизела даже скатертью стол накрыла — ее сын, говаривала она, «любит, чтобы на столе было красиво». План кампании они разработали во всех тонкостях — впору какой-нибудь графине с сыном. Грудь Кизелы так и распирало от гордости: Имре надел клетчатый пиджак, бриджи и желтые сапоги — агроном, да и только! В его причесанных на пробор волосах играло солнце, вокруг безусого рта кружила озорная усмешка. Пусть-ка поглядят на него, такого, Кураторы! Кизела как раз наказывала сыну, чтобы в церкви сразу сел на первую скамью, к интеллигенции, там его место. Имре, должно быть, с самого детства не заглядывал в церковь, но сегодня нужно было показать его деревне, чтобы видели Кураторы и вся их родня: стыдиться за Мари им не придется.
— Ну, прошла голова? — спросила Кизела, взволнованно вглядываясь Жофи в лицо: нахмурится ли опять при виде Имре, потемнеет ли от ненависти к нему?
Но Жофи была покойна и явственно старалась казаться непринужденной; она ответила совсем мягко:
— Нет, уже все прошло. Не хватало еще, чтоб и на троицу голова болела.
Физиономия Кизелы прояснилась. Ни разу, когда в доме находился Имре, Жофи не держалась так любезно. Похоже, она передумала и хочет, чтобы они тоже забыли, какой она бывала злыдней. А ведь как ей идет эта мягкость! В лице появились краски, даже осанка изменилась. Кизела готова была сейчас обнять Жофи, она даже с места вскочила от радости.
— Верно, голубка моя; куда это годится, чтобы на троицу голова болела. Особенно нынче — ведь так славно сейчас вокруг, просто душа радуется. Даже я решила тряхнуть стариной да приодеться, пусть хоть разок моя шелковая блуза проветрится, не то так и разлезется в шкафу. Вы-то, конечно, еще гневаетесь на боженьку? Вот и Имре мой такой же нехристь: чего, говорит, я в церкви не видел? Не умею, дескать, тянуть, как там положено: ве-ве-веру-у-ую, а под конец, говорит, еще к молодушкам подсяду ненароком. А ты, сынок, говорю ему, гляди, куда садишься, твое место среди интеллигенции, вот где. Не для того ты учился, чтобы между каким-то Дюркой Тотом да Яни Хорватом прятаться… Ох, вот уж звонят по первому разу, эдак и опоздать недолго.
Читать дальше