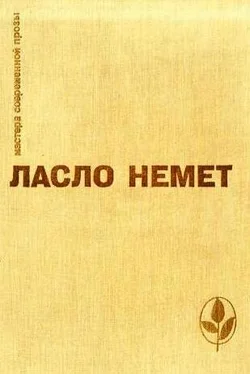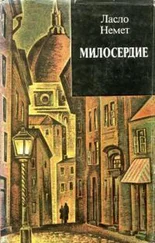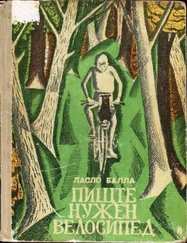Она и сама опешила от своих слов: что это на нее нашло — на мужа роптать! Или правда это, что плакала она из-за его отлучек? Или ей не было хорошо с ним?
— Жаловаться мне не приходится, жили мы хорошо, — добавила она, неожиданно для себя ощущая сейчас какой-то привкус скуки в их тогдашней жизни. Вечно эта старуха с надутой физиономией, вечно ее брань, попреки, что Шандор не занимается хозяйством, ему бы только старосту на выборах сковырнуть да на охоту закатиться. А она — между двух жерновов… Сейчас ей совсем не шли на память их былые шутки-игры на чердаке, о которых так хорошо вспоминалось зимой, когда она грезила о минувшей любви. Она видела перед собой каменный склеп, и ей казалось, что и тогда они жили в таком же точно склепе.
— Он был хороший человек, только очень уж своенравный, — задумчиво продолжала она, глядя на пятки Кизелы, которая семенила впереди по кладбищенской тропке, и отводя вытянутой рукой откачнувшуюся ветку. — Помню — мы тогда еще, может, месяца два как были женаты, — пошли мы с ним в воскресенье вдвоем на виноградник. Лозу обрезать, гусениц уничтожать на деревьях — это он любил. Обычно не очень утруждал себя работой, но в саду все у него как-то спорилось, он за подвальчиком целый питомник развел. И был у него состав какой-то, которым он тлю на абрикосах уничтожал. Велел он мне бутыль с тем составом положить в сумку, в которой я обед несла. Да вот она, эта сумка, та самая. А я забыла. Пришли мы, а он и спрашивает, где бутыль. А мне стыдно сказать, что дома забыла. «Уж не хотите ли вы, говорю, тлю сейчас уничтожать? Тогда ко мне не прикасайтесь!» — «Это, говорит, не тебе решать, когда мне до тебя касаться. Где бутыль?» — «Дома забыла». — «Нарочно?» А у самого глаза уже искры мечут. «Нарочно». — «Тогда иди обратно и принеси. Да живо. Чтоб к обеду здесь была». А вы же знаете, сколько от виноградников до Ковачей. Ну, я ведь тоже за словом в карман не полезу. «Сами, говорю, идите». А он ка-ак заорет: «Не пойдешь, значит?!» — так заорал, что я все-таки пошла, конечно, а дома еще свекровь высмеяла — дура ты, дескать, дурой. Вот такой он был нравный. Это и Шанике передалось, помните ведь, как он иногда упрямился.
Они вышли на расчищенный участок нового кладбища. Среди нескольких заброшенных могил возвышался целый холм цветов — могила Шаники. Жофи купила и соседнее место, чтобы привольней было цветам. Прохожего удивила бы столь просторная могила трехлетнего ребенка; Шаника лежал в ней, как лежит заспавшийся малыш на двуспальной кровати родителей. Возле креста стояли два розовых кустика, справа и слева — пеларгония, жасмин, а по краю — желто-лиловая полоска фиалок. На цветах жужжали жирные шмели, на поперечине креста сидела бабочка со сложенными крылышками — словно лист, поставленный на ребро.
— Чудесная могилка, — сказала Кизела растроганно и поправила подпорку у розового куста. — Ох, оса, противная!
— Это не оса, пчела, — заметила Жофи. — Ишь какие желтенькие эти пчелы, они с пасеки плотника Тота прилетают. Ему, бедолаге, это подспорье, когда торговля гробами не идет. Все равно за счет кладбища живет, мед-то отсюда.
— А фиалки хорошо сохранились, — похвалила Кизела.
— Пусть хоть немного поживут. На той неделе все равно их потопчут, если привезут железную ограду.
— На всем кладбище нет второй такой ухоженной могилы, — проговорила Кизела, глядя, как Жофи опорожняет бутыль с водой, выливая ее под кусты роз.
— Пусть хоть могилка будет красивая. Он, бедненький, кто знает, каким стал с тех пор. Страшно подумать, может, и кожа слезла. А ведь какой был хороший, крепенький, помните, как я его раздевала. Особенно когда совсем крохой был; ручонки, бывало, не промыть — все в перевязочках, да глубоких таких. И грудка пухленькая. Нет ничего на свете милее дитя малого. Знаете, если бы я когда-нибудь еще решилась, то только затем, чтобы этакая кроха возле меня на кровати барахталась.
Признание вырвалось нежданно-негаданно, и Жофи тут же вспыхнула.
— Конечно, это только так, к слову. Да разве могла бы я к кому-то еще привыкнуть.!
И она, подхватив бутыль из-под минеральной воды, заторопилась к колодцу, чтобы полить еще и пеларгонию. Когда она вернулась, плывшие по небу барашковые облака заслонили солнце, мрачно застыло и лицо Жофи.
Кизела думала о трактирщике, за которого хлопотала Илуш, и рискнула издали замолвить за него словечко.
— А почему бы и нет? Будет еще рядом с вами дитя малое барахтаться, Жофика, ведь вы такая молодая. Двадцать пять лет, много ли? Я только фату надевала в эти-то годы. А чтобы о милых усопших помнить, не обязательно молодость похоронить. Вот и сын мой, когда в последний раз приезжал, тоже говорил: «Это ж смертный грех — позволить, чтобы такая красавица увяла ни за что ни про что». Да если б вы только решились, любой мужчина за счастье почтет…
Читать дальше