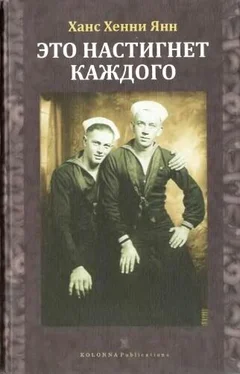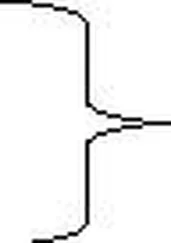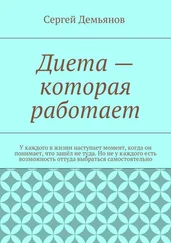Он лгал; но фру Ларсон не могла уличить сына во лжи. Тайна его инсценировалась вне пределов легкодоступного мира. Подмостками и кулисами для нее служила комната Матье: отрешенная, замкнутая, отгородившаяся, словно крепость, от прочих помещений. Гари не гадал, что ему предстоит узнать; а когда узнавал что-то новое, не подвергал свои ощущения анализу. Он жил этой любовью - необузданной, странной взаимной любовью, его и Матье, никогда не исчерпывавшей себя; жил этими повторениями, этими каждодневно свежими цветками, которые не распускаются полностью, а всякий раз с наступлением вечера закрывают чашечки, так и не явив свою сокровенную сердцевину. Конечно, в просветах между лепестками можно было различить мерцание золотой пыльцы; но ветер пока не срывал с этой всемогущей пыльцы покровы и не уносил ее прочь. Гари и Матье целовались. Шептали свои имена. Матье поворачивал в замке ключ. И они оставались вдвоем. С несказанным блаженством рассматривали друг друга. Не понимая, что именно их так восхищает, но чувствуя, что только вместе они владеют жизнью во всей ее цельности. Ощущение взаимной преданности не расточалось до конца, на дне всегда обнаруживался остаток: любопытство или ожидание; даже когда им казалось, что они вычерпали друг друга. Они не решались задуматься о том, что предназначение их еще не исполнилось и что ни один из них пока не выплатил своего долга другому.
- Что с нами происходит? - спросил Гари.
Матье расхаживал взад-вперед по комнате, на губах его играла улыбка.
- У тебя красивый брючный ремень, - сказал он.
Ремень был на самом деле старой подпругой. Гари, вероятно, где-то нашел его или украл. Необычно крепкий, из бычьей кожи, с надежной застежкой. Он будто подстрекал к чему-то. И Гари это сформулировал:
- Затяни мне его туго-туго: так, чтобы весь живот убрался и внутренности запали туда же.
- Нет, - ответил Матье, - это тебе повредит.
Но Гари все-таки лег на ковер, расстегнул красивую пеструю рубашку, обнажив гладко-коричневую грудь. Матье некоторое время колебался; потом опустился на колени рядом с Гари, ослабил пряжку и начал затягивать ремень.
- Туже, Матье, гораздо туже... - стонал Гари. - Проклятый слабак... Тяни же... ах... ну тяни... Изверг... никчемная тварь, тяни, говорю, - так, чтобы я обмочился...
Гари стонал, у Матье же глаза наполнялись слезами. По прошествии скольких-то минут он наконец отпустил ремень, лег на пол рядом с Гари, прижался губами к его губам. Течение времени прекратилось, понятия распались. Ангелы наблюдали за этой парой, онемев от сочувствия. Двое целовались. Гари широко открыл рот и проглотил губы Матье. Втянул в себя также его язык и принялся с ним играть. Он кормил друга, словно птенца, слюной - и своим неуклюжим толстым языком ощупывал изнутри его рот. Они так соединялись. Гари был как одержимый: снова и снова ловил он губами губы любимого человека, проталкивал свой язык вперед, а язык Другого заглатывал. Чуть не до обморока, наполовину задушенный, наслаждался он этой игрой, которая изнуряла и его, и Матье, делала их безвольными, но была доказательством верности, любви, освобождения от себялюбия. Даже на пике радости Гари едва ли ощутил, пусть смутно, то желание, которое позже неодолимо им овладеет, которое он год за годом будет подавлять - движимый стыдом, робостью, страхом потерять друга. Но уже скоро он отчетливо распознает в себе это желание, бороться с которым придется ежедневно. Словно проклятие обрушится оно на него: желание соединения с другим человеком, плотского счастья, безмерного свершения, для которого нет имени, которое поэтому и не может стать предметом какой-либо договоренности. Однако на стенах написаны грязные слова; мерзкие рисунки отравляют плотские влечения. Сила Гари - в его здоровой плоти. Он наделен чистотой простодушного человека, лишь по видимости пребывающего в разладе с собой. Он идет своим путем, непредсказуемым. Он снова и снова находит дорогу назад, к Матье, рядом с которым - мальчиком - хотел умереть, если умрет тот.
Матье и Гари целовались. А надо сказать, что Гари, переживший потом много эротических приключений, никогда не целовал никого, кроме Матье, что он прикрывал себе рот рукой, стоило какой-нибудь девушке потянуться к нему губами. Он прибегал ко лжи: что будто бы ни разу не прикасался к человеческим губам, что для него нет ничего отвратительнее, чем когда двое трутся носами и лижутся . Он удовлетворял свои желания с другими, как если бы ему оставались чужды и сами эти люди, и удовольствие поцелуя. На самом же деле он уже при первой детской попытке поцеловаться с любимым дошел до грани оргазма, погрузился в пучину беспамятства. Мы не знаем, допустил ли он хоть одно исключение из своего правила. Может, именно тот, кого он подростком целовал так часто и так страстно, поведет его дальше...
Читать дальше