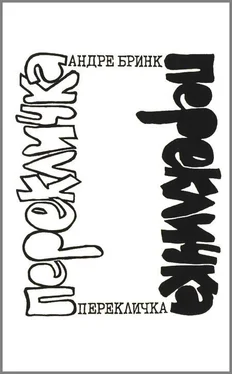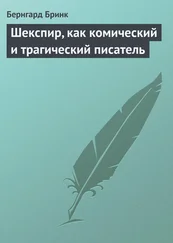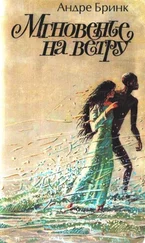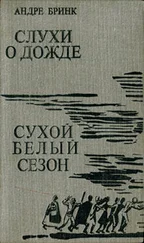Но она убежала снова. Потребовалось немало терпения, чтобы понять, что она убегала не от нас, просто иногда ее тянуло обратно, в свой дом в Хауд-ден-Беке. Я жила в беспрерывном страхе за нее — кругом были гиены, бабуины, змеи, леопарды и еще бог знает что, — но мне пришлось смириться, другого выхода не было, не держать же ее взаперти. Немного привыкнув к нам и отчасти даже смирившись с нами, она иногда рассказывала о своих путешествиях, спокойно говоря о том, как змея подняла голову и зашипела, но уползла прочь, едва Эстер прикрикнула на нее; как она заметила леопарда, крадущегося за ней следом, но отогнала его; как случайно наткнулась на гиену, схватившую ягненка, и спасла его. Пит приходил в ярость от ее историй, но я доказывала ему, что Эстер вовсе не хотела врать, что это просто ее фантазии и что все девочки в ее возрасте таковы. Я уговаривала ее не приукрашивать столь сильно то, что случалось с ней, иначе мы перестанем ей верить. Однако мне стало не по себе, когда после ее рассказа о гиене я узнала от пастуха, что он в самом деле нашел сильно покусанного ягненка, а на земле следы борьбы и отпечатки лап гиены, да и потом иногда бывало, что какая-нибудь невероятная история тоже вдруг оказывалась правдой. Всегда трудно было отличить в ее рассказе действительные события от фантазий, и это лишний раз подтверждало то, что я уже давно с болью поняла — несмотря на все мои старания привязать ее к себе, она всегда останется одинокой и независимой. Это было заложено в самой сути ее девственной природы, причем девственность ее не имела ничего общего с отношениями между мужчиной и женщиной; Эстер сама отвечала за себя, а то, чем она делилась с другими, было даром щедрости, на который она шла сознательно, к тому же даром второстепенным, никогда не затрагивающим главного.
И все же с ней я была не так одинока. Всякий раз, когда я решала научить ее чему-нибудь, она училась — училась шить, вышивать, читать, готовить, все делая быстро, точно, ловко и не успокаиваясь до тех пор, пока не достигала совершенства. Но и в этом она выказывала странную отчужденность, как будто то, что наполняло наши дни, по сути для нее не важно: она не против заниматься всеми этими делами, ей даже нравится делать их хорошо, но то, что действительно ее волновало, всегда останется ее тайной, которую никто не узнает. А потому ее общество, хоть и утоляло слегка мою потребность в близости, в то же время еще острее заставляло меня почувствовать свою ненужность.
Я любила расчесывать ее волосы, длинные черные волосы, доходившие ей до пояса, и она покорно стояла каждый вечер чуть ли не часами, пока я их все расчесывала и расчесывала: одно из немногих удовольствий, которые выпали мне на долю с тех пор, как я покинула Кейптаун. Роскошные, великолепные волосы. Но вот однажды без всяких объяснений она вдруг обрезала их большими ножницами для шитья. Когда, оправившись от потрясения, я заплакала, она смотрела на меня с тихим удивлением; то был один из редких случаев, когда я не выдержала и наказала ее. Но это было, конечно, бессмысленно. Она просто еще раз утвердила свою независимость, еще раз напомнила мне, что утешение, которое я находила в нашей близости, было лишь моей иллюзией, а вовсе не частью ее жизни.
Ночами я часто лежала без сна, с тревогой думая о ее будущем, обеспокоенная потаенной силой ее натуры. После того как Пит засыпал, дыша так глубоко, что казалось, будто сами стены дома раздуваются и сжимаются от его дыхания, я потихоньку вставала и босиком подходила к ее матрасу в углу комнаты. Даже во сне ее узкое личико было серьезным и ничего не открывало моему вопрошающему взгляду. Иногда она еще не спала, ее глаза в свете свечи спокойно встречались с моими, невозмутимые и мудрые.
— Почему ты не спишь, Эстер?
— Я просто думала. — Или: — Я смотрю на луну. — Или: — Я слушаю шакалов.
— Не бойся.
— Я не боюсь.
Как-то раз она вдруг спросила:
— А что вы с этим человеком делали в темноте?
Она упорно называла Пита «этот человек», и ни разу — «дядюшка Пит».
— Уже поздно, — глупо ответила я. — Пора спать.
— А он не убьет и тебя?
— Он вообще никого не убивал, Эстер.
— Он убил моего отца.
Даже воспоминание об отце встревожило меня не столь сильно, как то, что она прислушивалась, хотя и в темноте, к яростным нападениям Пита на мое покорное, но отвергающее его тело; на следующий же день я велела служанке перенести ее матрас в другую комнату.
Вскоре после той ночи, возможно как раз потому, что ее замечание сильно насторожило меня, я сделала еще более встревожившее меня открытие, обнаружив, какое очарование таилось для нее в вопросах плоти. Как-то днем я поспешно вошла в дом, чтобы не видеть отвратительной возни собак во дворе, и вдруг заметила Эстер, которая, стоя у окна, глядела на них с такой увлеченностью, что у меня перехватило дыхание. Рот у нее был полуоткрыт, она дышала глубоко и часто, сжав кончиками пальцев щеки, а темные глаза (когда она наконец обернулась ко мне) сверкали огнем.
Читать дальше